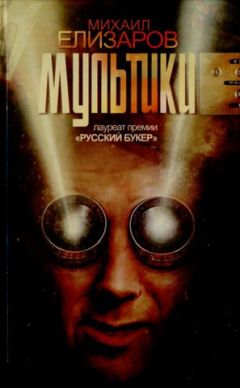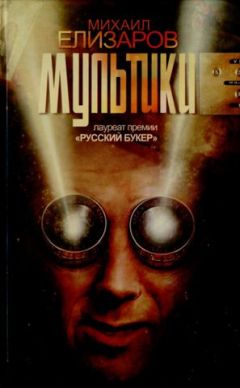Звуковой подкладкой служили мерные удары, точно невидимый плотник с точностью метронома торжественно забивал в гроб глухие гвозди.
«Р расчленял трупы для удовлетворения извращенной страсти — желания посмотреть на строение тазобедренного сустава у здоровых детей, так как постоянно завидовал им. Р в момент правонарушения не был в состоянии расстроенного сознания, однако имеющееся уродство личности с нарушением воли, эмоциональности, влечений и критики настолько выражено, что свидетельствует о наличии медицинского и юридического критерия невменяемости. Подобные поступки иллюстрируют особенности патологического формирования психики подростка с физическим недостатком. R обнаруживает признаки органической психопатии с выраженной патологией влечения — „танатофилией“, степень которой столь глубока, что исключает возможность Р. отдавать отчет в своих действиях и руководить ими. Поэтому в отношении инкриминируемых ему действий… — паузу заполнила тревожная барабанная дробь, как в цирке перед сложным акробатическим трюком, — мы признаем Р. невменяемым, и ему рекомендовано принудительное лечение в психиатрической больнице специального типа…»
Раздался глубокий деревянный удар, похожий на стук судейского молотка.
— Неужели Алешка Разум проведет всю свою жизнь в закрытой больнице, запертый в палате, как в клетке? — оборвал возникшую паузу горький вопрос Разумовского. — Так бы и случилось, если бы не один человек. С самой что ни на есть большой буквы Ч… — Голос Разумовского подавился умилительным комом и наполнился слезами.
Для наглядности возникла эта нарисованная «Ч», стилизованная под книжный стеллаж. К нему прислонился мужчина средних лет в слегка одомашненной военной форме — галифе и гимнастерка были спокойного серого цвета. На левой руке черная перчатка. Возле сапога стоял громоздкий чемодан. Я вспомнил, что уже видел этого человека «с большой буквы» — в начальном кадре с названием диафильма «К новой жизни!». А теперь он опирался локтем о полку, слушал врачей и чуть посмеивался — за моей спиной хмыкал Разумовский, — а потом произнес хрипловатым баритоном: «Как же все у вас просто получается?! Линейкой человека измерили, килограммы взвесили, душу ногтем поскребли — и в утиль списали! Хороши, ничего не скажешь!» — Все головы сразу повернулись к стеллажу. «Кто вы, товарищ?» — спросил главный докладчик. — «Я — Гребенюк. Виктор Тарасович». «Вы врач?» — поинтересовался докладчик. — Тот покачал головой: «Педагог».
Голос Разумовского ходил ходуном от душевного волнения.
— Не знал тогда в своей одиночной палате Алешка Разум, кто вступился за него, когда медики поставили на мальчишке большой кладбищенский крест. Будущий спаситель решительно подошел к столу: «Я внимательно слушал вас, уважаемые товарищи эскулапы. А теперь хочу спросить: легко ли складывались наши с вами судьбы? Довелось многое пережить, ломать, корчевать свои прежние убеждения и пристрастия во имя высшего правого дела. И Родина всем давала шанс исправить свои ошибки, учила жить по-новому. Я хочу спросить вас: разве для того дается человеку жизнь, чтобы он прожил ее червем в земле, не увидев счастливого простора вокруг, не узнав величия любви, добра, гражданского подвига?! — Врачи с удивлением и интересом внимали словам неожиданного человека. — Но как говорится, лучше один раз увидеть, чем сто раз услышать! — Он взялся за чемодан. — Это займет немного времени, но оно того стоит. Все-таки на карту поставлена жизнь…»
Следующий кадр показал больничную палату: зарешеченные окна, плотные шторы, металлическую, выкрашенную в белый костяной цвет кровать, куда забрался с ногами Разум, тумбочку с приставленным к ней табуретом.
— Алешка ждал, когда его переправят в новую больницу тюремного типа. Санитар проговорился об этом, прибавив, что Разуму вообще повезло — признали невменяемым, а то не миновать бы расстрела, хоть и малолетка. Прошел день, и никто не появился, кроме нянечки, приносившей еду. А вечером в дверь Алешкиной палаты постучали. Одно это уже было странным. Обычно входили бесцеремонно — без стука. «Можно?» — спросил голос за дверью. «Да», — отозвался Алешка, закрыл и бросил на тумбочку общую тетрадку, в которой от скуки дорисовывал человечкам кудельки на «отрезанные» головки. В палату шагнул мужчина в военной форме, на гимнастерке — орден «Знак Почета», в правой руке — большой чемодан. Левая чуть поджата, неподвижна и в перчатке — протез, что ли?
Разумовский во избежание неправильного восприятия зрителем дорогого учителя сам истолковал нарисованного Гребенюка:
— Лет вошедшему было на вид чуть за сорок — темные с легкой проседью волосы, на лбу шрам, напоминающий математическую скобку, ясные голубые глаза, широкие скулы, на губах улыбка: «Ну, здорово, Джек-потрошитель», — надтреснуто, с неуловимым папиросным дымком произнес посетитель. «Я не Джек», — сразу набычился Алешка. — «Ну, и как тебя зовут?» — усмехнулся мужчина. — «Вы, можно подумать, не знаете! — огрызнулся Разум. — Алексей Разумовский». — «Вот и отлично. А меня Виктор Тарасович Гребенюк. Будем знакомы». — Мужчина протянул Алешке руку, дождался, пока тонкая мальчишеская кисть не погрузится в его крепкую ладонь…
Разумовский виртуозно без стыков перескакивал с голоса на голос. Последние несколько минут звучало трио: юный дискант Алешки Разума, зрелый тенор Разума Аркадьевича и хрипловатый басок Гребенюка:
«Чего пожатие вялое такое, мало каши ел? — Гребенюк оглядел палату. Что-то было особенное, лихое в этом взгляде. Так матерые уголовники одним неспешным внимательным поворотом головы осматривают свою камеру. — Да, унылые хоромы. В таких кто угодно захандрит…» — «Пришли, чтоб забрать меня в специальную больницу?» — презрительно спросил Алешка. — «С чего это ты взял? — удивился Гребенюк. — Нет, я не врач. Я по другому вопросу. Дружище, имеется предложение. Алексей — как-то официально звучит. У тебя есть прозвище какое-нибудь? Вот меня, к примеру, приятели в детстве Гребнем величали. А тебя наверняка — Разумом. Угадал?»
Разумовский расчувствовался:
— Глаза мальчишки вдруг наполнились слезами, он быстро отвернулся к окну, чтобы этот Гре-бенюк не увидел, что случайно оброненные слова ранили в самое сердце. А что мог ответить Алешка? Что никто не называл его Разумом, а только дразнили Галошей?..
«Хорошее прозвище — Разум, — похвалил Алешку Гребенюк. — Мне лично очень нравится. Ты не против будешь, если и я тебя тоже стану Разумом называть? Ты какой класс закончил? Пятый? Вот еще пять лет отучишься, поступишь в институт, будет у тебя такой предмет — философия…» — Алешка хотел было возразить гостю: «Какой институт! Я же даже в школу уже не вернусь!» — но промолчал. — «Разум — штука посложнее ума, — продолжал Гребенюк. — Раньше философы-идеалисты полагали, что ум занят познанием всего простого и житейского: вот суп, в нем картошка. А разум вроде как возвышается над умом, существует отдельно, независимо от мозга и занят познанием бога. А бога-то, как выяснилось, нет! Так что же тогда познает разум? — Гребенюк за время своей речи успел сдвинуть вбок кровать, переставил вперед тумбочку и табурет. — Прусский философ Кант считал, что разум постигает не бога, а вещь в себе. Ты ведь тоже пытался постигнуть в себе какую-то вещь?» — «Пытался», — тихо ответил Алешка. — «Ну и как, доволен успехами? — Гребенюк подмигнул. — Не бойся, я ни в коем случае не собираюсь тебя поучать или критиковать. Я ведь не этот самый Кант. У него была работа „Критика чистого разума“. Кстати, ты уши мыл?» — озабоченно поинтересовался Гребенюк.
Разумовский каким-то невообразимым интонационным приемом дал понять, что дальше последует шутка: «А почему вы спрашиваете?» — Алешка, признаться, оторопел от такого речевого напора. — «Да потому что, если не мыл, то работа Канта будет называться „Критика неумытого Разума!“» — Увидев недоумевающее лицо Алешки, Гребенюк расхохотался. Алешка тоже заулыбался. Впервые за несколько месяцев. Ах, как не походил этот новый странный человек на тех, с кем приходилось общаться в последние месяцы!..
Разумовский умело отделил добрую улыбку рассказчика, не перестающего удивляться чужому оптимизму, от самого Гребенюка и его хоть и заразительного, но грубоватого гогота — так ржет шпана, когда кто-то поскальзывается на арбузной корке.
«Философ Декарт полагал, что разум знает собственную природу и живет сам по себе. Только если бы так было, функции разума не зависели бы от повреждений мозга. А тут простой удар молотком по башке — и разум на пару с умом уже не знают, как воду в сортире спустить… К чему я это все веду… — Гребенюк осторожно повалил чемодан на пол и присел рядом. — Ты, конечно, парень, делов наделал — сказать нечего. Но нет ничего непоправимого…» — Гребенюк щелкнул никелированными замками чемодана…