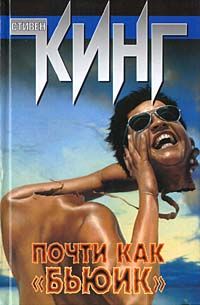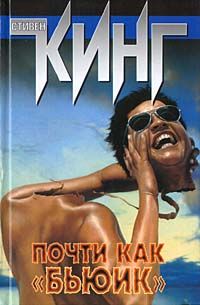Глаза Спенсера впиваются в мои. Руки плашмя падают на стол и начинают подрагивать. Он и впрямь страшно исхудал, скулы выпирают, как гребни скал.
– Смелый ты парень, Мэтти, – шипит он. – Впрочем, ты всегда таким был. – Он берет ложку и смотрится в нее. – Так ты хочешь знать, что ты натворил? Именно знать, а не тешить себя иллюзиями? Что ж, получите, сэр. – Он выдерживает минутную паузу. Комическо-драматичес-кий эффект. – Это твоя жизнь, Мэтти. Больше не моя – только твоя. Я и так уже знаю больше, чем хотел. – И снова этот стонущий звук, похожий на жужжание лампы дневного света. Что-то в его глазах меркнет и через мгновение снова вспыхивает живым огнем. – Я виделся с ней. Один раз.
Голос Спенсера сорвался на рык, и он закашлялся. Предчувствие тонкими струйками поползло у меня по задней стенке гортани – физически ощутимое, леденящее.
– Мне что, пасть ниц по этому поводу? – спрашиваю я.
– Не знаю. – Спенсер качает головой. – Я еще никому об этом не говорил. Впрочем, раньше и повода не было, черт бы его побрал. Только у тебя хватило то ли идиотизма, то ли наглости полюбопытствовать. Так что сиди теперь тут и слушай. Я Призрак Переебанного Рождества,[53] и то, что я сейчас расскажу, причинит тебе боль, но ничего уже не изменишь. Попытайся понять. Быть может, ты избавишь себя и, что гораздо важнее, людей, о которых ты якобы так печешься, от некоей вполне реальной боли и поистине кошмарных видений.
Еще немного, и под ним загромыхают рояли.
– Я хочу, чтобы ты представил мой дом, Мэтти. Мамин дом, я имею в виду. Представил? «Тонкавские» мини-тракторы? Они там так и стоят. Старые желтые шторы с дырками от сигарет, доставшиеся нам от прежних владельцев? Они тоже на месте. Мать в делах. Отец давным-давно ушел. Он бросил нас примерно тогда же, когда и ты.
Я не реагирую. Некогда мне смотреть на дом Спенсера. Я даже помню его запах – слабый, но стойкий запах пережареного попкорна. А эти шторы почти совсем не пропускали света.
– Мне было, может, лет восемнадцать. Или девятнадцать? Начало самого жуткого периода моей жизни. – С тяжелым вздохом он сжимает в кулаке шелуху. – Нет, вру. К тому времени жуткий период был в самом разгаре. Я уже открыл для себя иглу. Я уже перетаскал все до последнего цента из маминых денег, которые она хранила на черный день в корзине для пикников на чердаке, хотя тогда она даже не подозревала, что я ее обокрал. В тот день, когда произошло именно то, о чем ты хочешь узнать и ради чего ты и проделал весь этот путь, я сидел с иглой в руке. Ширево я вводил очень медленно. Если делать это по всем правилам, то можно въяве почувствовать, как оно разливается по венам. Сквозь желтые шторы я смотрел на снег. Была середина дня, середина недели, и стояла величественная тишина. На улице – ни единой живой души. И тут я услышал стук в дверь. Негромкий.
Он легонько постукивает кулаком по столу и снова умолкает. Но от этих ударов у меня леденеют все кости, словно меня закопали в сухой лед. Суставы покрываются мелкими трещинами, которые распространяются по мышцам и артериям. Если бы Спенсер сейчас меня ударил, я бы разлетелся на мелкие осколки, как разбитое стекло.
Я знаю этот стук. Но я никогда ему об этом не рассказывал. Не рассказывал ни жене, ни родителям, ни полиции, ни кому бы то ни было вообще. Фактически я вымарал этот эпизод из своей сознательной жизни и до сегодняшнего дня о нем не вспоминал. Спенсер снова опускает кулак на стол и снова легонько, но я чувствую, как подо мной дребезжит скамейка.
– Стучали шесть, семь, пятьдесят раз – не знаю, не считал. Просто сидел, подкармливая ненасытный голод и вбирая в себя тишину. Наконец я медленно – потому что под героином все происходит в замедленном темпе – начинаю осознавать, что меня что-то раздражает. Еще шесть, семь, пятьдесят ударов – и я понимаю что. Тогда я осторожно вытягиваю из руки иглу, так что-бы видеть кожу и складку на вене. Это так же приятно, старик, как продырявить пленку на свежем арахисовом масле, – уж это-то ты, я полагаю, пробовал. И вот я плыву к двери. Нащупываю ручку, но она кажется мне какой-то не такой – слишком маленькой. Я никак не могу ее ухватить и чуть не падаю навзничь, пытаясь ее повернуть. Но все-таки мне это удается. Дверь открывается. Я вижу свой двор, свежий снег. А там – она.
Спенсер умолкает, и тишина его дома, словно просочившись из рассказа, заполняет все кафе.
– Вид у нее несколько… несколько необычный. – Он комкает слова, как будто ему трудно выдавливать их сквозь зубы. – Блестящая юбка. Шелковая такая, словно она только что с бала, но еще футболка с надписью «Упокойся, и воздастся», кроссовки на босу ногу, и все. Ни куртки, ни перчаток – ничего. Снег валом валит, а ей хоть бы что. Волосы длинные, прямые – копна волос. Тоник! – внезапно выкрикивает он. – И плесни в него этого чертова джина. Собственно, можно и без тоника.
Пораженный, я смотрю, как Спенсер пялится в стол, плечи у него вздрагивают, лицо взмокло. Спустя довольно много времени – так много, что я начинаю думать, уж не наступил ли случаем конец света, – шторки со звяканьем раздвигаются и в проеме показывается лицо нашего необъятного бармена.
– Вы что-то сказали, пастор?
Спенсер с усилием качает головой.
– Нет, просто болтаю с Главным Небесным Барменом, – говорит он и, сделав пять-шесть глубоких вздохов, выжимает из себя улыбку.
– Уж у Него-то есть все, что ни пожелаете, – изрекает лягушкотелое чудище.
– Это точно. Только Он иногда жадничает. Ладно, иди.
Шторки снова звякают, и бармен удаляется. Какое-то время мы со Спенсером молча смотрим друг на друга. И, глядя на него, я вижу Терезу, стоящую у дверей его дома; ее длинные волосы нависают на лицо, как ветви плакучей ивы. Она в костюме утопленницы.
– Ты не пьешь? – спрашиваю я наконец. Спенсер вздыхает:
– Мне запрещается иметь какие-либо вредные привычки. Я и сам себе не позволю. А тебе запрещается встревать, пока я не выскажусь. Молчи, что бы я ни говорил. Я делаю это только один раз. Второго не будет до Великого Подведения Итогов.
– Великого чего?
– До Судного дня. Умолкни!
Ни с того ни с сего все его тело вдруг содрогнулось, как будто его только что подвергли дефибрилляции.[54] Однако выражение лица не изменилось, глаза по-прежнему смотрят на меня.
– Все будет хорошо, – говорит он то ли мне, то ли самому себе, то ли просто по старой привычке повторяет мантру.
– Именно это я и пытался…
– Не у тебя. У тебя никогда не будет все хорошо, никогда не будет все, как ты хочешь. «Все будет хорошо» – это фраза, которую произнесла Тереза, когда вошла в дом. А тебе, между прочим, велено молчать.
Я молчу. Я даже едва дышу.
– Она прошмыгнула так близко, что в тогдашнем моем состоянии мне показалось, будто она прошла сквозь меня. Один из нас призрак, помню, подумал я тогда и, стоя в дверях, пытался сообразить, кто именно, как вдруг почувствовал, что ее рука схватила меня за пальцы и сдавила их, словно крабья клешня… К тому времени я почти не сомневался, что призрак – она, потому что она была такая холодная, будто прошла пешком весь путь от Трои до моего дома. Только это был уже не дом, а пещера, в которую я забрался, чтобы погрузиться в зимнюю спячку, и вот мой покой нарушили. Это был единственный момент страха, и вроде бы я даже умудрился оцепенеть, по крайней мере в одной из нижних конечностей, и тем самым оттянуть наше удаление от спасительной входной двери, но героин победил, и я повиновался. Героин заверил меня, что это галлюцинация, может даже весьма интересная. Чем я и утешился.
В каденцию монолога Спенсера впервые закрались нотки самобичевания. Я узнал его моментально – старый друг, как-никак! – но если у меня самобичевание имеет характер непрерывной пульсации, то у него проявляется в резких жестоких ударах, оставляя кровавые рубцы на его сентенциях и вызывая удушье.
– «Я замерзла, – говорит она. – Не заваришь чаю?»
Какое-то время я стою рядом с ней в раздумье и наконец отвечаю: «Могу согреть воды». Я так хорошо это помню, Мэтти. Ведь для меня это было как кино, понимаешь? Как кино. Там был не я.
Мы идем на кухню, я и Тереза Етить-Твою Дорети; я пытаюсь сосредоточиться на кипятке, а она фланирует между столом и окнами, растирая руки и глядя на снег. «Львы, – говорит она, я киваю, и она продолжает: – Помню, как мы стояли с тобой у этого окна и высматривали львов, прямо как сейчас». Потом усаживается на один из наших кухонных стульев. Белый пластик, красные виниловые сиденья, местами разодранные, со следами плесени. Я подаю ей чашку с кипятком. Она обхватывает ее ладонями, греет над ней лицо; я сажусь рядом и смотрю, как розовеют ее щеки. Потом розовеет вся кухня – в моих глазах, словно я смотрю сквозь розовый фильтр или кровавую воду, но она совсем не страшная, просто розовая. И печальная.
«Меня не было в городе», – сообщает она, глядя на меня сквозь пар.