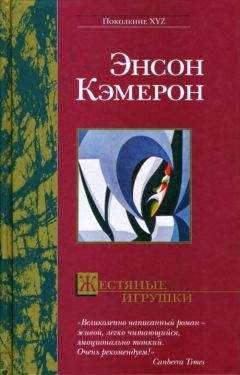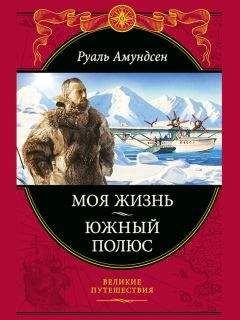Ну, затем этой молодой жене уже до ужаса хотелось поговорить со слепым стариком. До ужаса нужно было обозначить свое место в его мире, здороваясь, болтая о погоде и прочей ерунде, которая придет в голову. Но ведь заговорить с ним теперь означало бы признаться во всех своих бесчисленных умолчаниях. Своих бесчисленных прятках. Она слишком долго скрывши от него свое существование. — Кими отпивает вина из бокала. Я молчу.
Вот так она и продолжала жить втайне от него — каждый день, когда тот шкандыбал мимо ее палисадника. Но иногда его собака поворачивала голову и смотрела на нее, и тогда она краснела, как рак, и молча опускала взгляд на свежевскопанную землю, словно смотрела на нее не собака, а сам слепой старик.
А потом как-то раз, когда эта семья жила в доме уже пару лет, они оба возились в палисаднике — она пропалывала клумбу, а он окапывал… ну, скажем, куст лаванды — и по тротуару мимо них, как обычно, шкандыбал за своей собакой слепой старик, и молодой муж сказал ему, как обычно: «Доброе утро. Славный денек сегодня, правда?»
И слепой старик ответил: «Просто чудесный. Можете смело спорить на свою жизнь против всего чая Японии, что день чудесный. Замечательный для празднования дня рождения».
И молодая жена подняла на него взгляд оттуда, где она стояла, согнувшись над клумбой, и рот ее испуганно округлился, а ее муж удивленно приподнял брови, и опустил руки, и переспросил у слепого старика: «День рождения?»
И слепой старик махнул рукой в сторону молодой жены и сказал: «Ну, духи сегодня новые. Потому я и решил, что у нее сегодня день рождения».
И ни молодой муж, ни его молодая жена не нашлись, что сказать, потому что так оно и было: он подарил ей флакон новых духов, потому что ей исполнилось двадцать шесть лет. Слепой старик повернулся к ней и сказал: «С днем рождения». А потом дернул собаку за поводок, подгоняя ее, и они зашкандыбали дальше. — Кими умолкает, смотрит на меня, делает еще глоток вина.
Ну, конечно, после этого молодая жена уже не могла больше выходить к себе в палисадник. И жить в этом доме тоже больше не могла. Ей было слишком стыдно. Она скрывала от него свое существование потому… потому, что он был не такой, как она. И им пришлось продать дом и переехать в другое место.
Кими обводит взглядом ресторан, и касается лба указательными пальцами, и ведет ими от лба к ушам, убирая волосы со своего словно светящегося бледным светом лица. Потом поднимает свой бокал и отпивает вина.
— Каждый может испортить свое первое знакомство со слепым, Хантер. Скорее даже испортит, чем нет. Но, может, и не испортит. Сложная это штука, слепой, когда ты встречаешься с ним в первый раз. Но то, что выходит при знакомстве с первым своим слепым, учит тебя, как вести себя со вторым слепым. Важно, как ты себя поведешь со вторым своим слепым. — Она делает еще глоток и ставит бокал.
— Ну? И что случилось, когда она встретила второго слепого?
— Это же притча. Все было хорошо.
Я тоже делаю глоток вина, отставляю бокал и смотрю на нее. Спрашиваю взглядом, что она хотела сказать своей притчей. К чему это все она.
— Это же притча, — повторяет она. — Одна из этих древних сказок, которыми можно пользоваться, чтобы сказать что-нибудь кому-нибудь. Вот эта, например, про то, какими бывают другие люди. — Она пожимает плечами.
— Ну и почему ты мне ее рассказала? Сказку про других людей?
Глаза ее вдруг наполняются слезами, и она открывает их широко-широко, не моргая и не мешая слезам стекать по лицу.
— Что случилось? — спрашиваю я.
Она отпивает еще вина.
— Ничего, — отвечает она своему бокалу. — Просто я испортила свою первую встречу со слепым. Испугалась кого-то… странного. Того, кто, по-моему, сделал бы из меня кого-то другого. Я просто испугалась. — Она смотрит на меня. Я смотрю на нее. Слезы стекают по ее лицу и набухают каплей на подбородке.
— Так это ты про тот свой аборт? Тот неродившийся ребенок и есть слепой из твоей притчи?
— Ну да… Слепой — это человек, в которого вырос бы мой ребенок. Только, Хантер, помнишь: важно то, как поведешь себя со вторым слепым.
— Ты мне так и не сказала, что случилось со вторым.
— Только хорошее. Уже забыл?
— Так ты хочешь ребенка?
Она кивает.
— Я так перепугалась… я натворила глупостей. Я была не готова ко встрече со слепым. Давай заведем ребенка. — Она протягивает руку и кладет ладонь поверх моей, лежащей на столе, и я поворачиваю ее и сжимаю пальцы.
— О’кей. Давай заведем ребенка.
Я встаю и тянусь к ней через стол, и мы целуемся, и она касается пальцами моего подбородка, и лицо ее вблизи превращается в безупречный ландшафт светящейся зеленой кожи, а глаза ее печальны и прекрасны.
— Только одно хорошее, — бормочу я ей в губы.
Она берет свой бокал, а я беру свой, и мы тихонько чокаемся их круглыми боками, и она шепчет:
— В День Австралии. Когда я вернусь с Бугенвилля, мы дождемся, пока тебя объявят великим гением, а потом мы пойдем домой, и займемся любовью, и сделаем ребенка, и дальше все будет только хорошо.
— В День Австралии, — повторяю я за ней. Хотя даже не помню, когда он у нас.
ГЛАВА СЕДЬМАЯ
Смерть «Вольво»-Жены
Когда мой отец убил мою мать, я узнал, что он убил ее еще семь лет назад. Он держал в руках семь окрашенных ее образом лет жизни и говорил что-то вроде: «Ну что ж… ладно. Ты сотворил их искусно… с душой. Но это ты сотворил их. На деле-то их не было. Та мать, которая всегда вот-вот была готова прийти к тебе с распростертыми объятиями и поддержать тебя против всего несправедливого мира, была твоей мечтой, порождением твоего сердца, и мне стоило бы положить этому конец давным-давно. Застрелить ее разоблачением. Правдой. Но как-то рука не поднималась».
Когда он сказал мне это, это застало меня врасплох — тот факт, что последняя живая часть ее была погребена семь лет тому назад. Что мать, которая возмутительным образом ускользала от меня каждый день на протяжении восьми лет моей жизни; мать, которая в самые тяжелые минуты вот-вот готова была прийти ко мне, и посадить на колени, и прижать к груди, была мертва семь из этих восьми лет. Гнила в какой-то безымянной заводи, пока ее деревянное надгробие плыло в море вместе с прочим унесенным сентябрьским паводком хламом. Что последние семь ее лет были целиком и полностью выдуманы мной. Были счастливой, прекрасной, отважной, но ложью.
Ее убили в нашу третью войну принципов. Орудием убийства стал не нож, как это можно было бы предположить, и не пистолет, что было бы еще вероятнее. Им отказался мачете, изготовленный в Китайской Народной Республике, чтобы рубить им бамбук и капиталистов. Тяжелый мачете с вороненым лезвием, его я увидел в витрине джефферсонского магазина армейских распродаж, перед которой частенько шатался поглазеть на красивые и бесполезные игрушки для убийства, усиженные мухами и покрытые слоем пыли. Около мачете лежала написанная от руки табличка, на которой было выведено: «Использовался китайскими коммунистами в Корее».
Впервые я увидел его за несколько недель до Рождества и сразу же начал говорить папе, что это как раз такая штука, которую Санта-Клаус обязательно принесет в своем мешке всем будущим героям семи лет от роду в Джефферсоне. На что он только хмыкал и фыркал, но и не возражал открыто. Что лишний раз убеждало меня в том, что он законный и полномочный представитель Санта-Клауса.
В результате все Рождество пошло у меня прахом; все, что я нащупал сквозь мешок в изголовье своей кровати в сочельник вечером, через пять минут после того, как он повесил его туда и вышел на цыпочках, пока я, затаив дыхание, притворялся, что сплю, были: первый мой настоящий футбольный мяч из свиной кожи, сделанный в Индии, и несколько книжек, и несколько боксерских перчаток, и такая разноцветная пружина, которую можно растянуть раз в сто длиннее изначальной длины, а можно заставить саму спускаться по лестнице, и еще какие-то небрежно обернутые пластмассовые безделушки из магазина самообслуживания при бензоколонке «Би-Пи». И никакого мачете.
Наутро мы с ним почти не разговаривали, если не считать «счастливого Рождества» ему от меня и «счастливого Рождества» мне от него — и то и другое не очень искренне.
После этого мы с ним нанесли несколько коротких, избыточно вежливых визитов с обменом подарками к Тете Дженнифер и Дяде Шину, поскольку отец держался в своей семье особняком после того, как они заняли сторону его жены, когда он бросил ее ради черной женщины, и еще больше особняком после того, как он взял к себе мальчишку-полукровку, которого вполне мог и не брать и тем более не совать им под нос, приводя с собой.
Поэтому Рождественский обед для нас он устроил в «Виктории», в обществе мелких представителей фирм со всего света, торговавших грузовиками в его «Грузобъединенных Нациях», где он получал процент с каждого проданного грузовика, потому что именно он собрал всех этих производителей на принадлежащих ему десяти акрах асфальта и превратил их в тот самый магнит, притягивавший потенциальных покупателей многоосных махин.