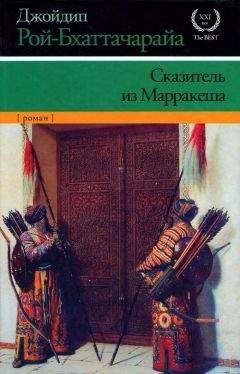Ахмед стоял босой, штанины болтались на тощих ногах. Солнечный свет усиливал белизну стен и полов, покрытых раствором на основе извести. Я превозносил достоинства такого рода простоты; Ахмед равнодушно слушал.
— Раз так, поеду в Фес, — подытожил он.
Отца чуть удар не хватил.
— Ты, значит, хочешь жить среди этих заносчивых арабов! — бушевал он. — У них одни деньги на уме, а культуры отродясь не бывало!
Ахмед рассмеялся;
— Культура, отец, у них такая, какая тебе и не снилась. Впрочем, ты сам знаешь.
Он проследовал в свою комнату, собрал в узелок пожитки, попрощался с нами и вышел на солнечный свет. На расстоянии нескольких шагов за ним трусила его поджарая черная собака.
В ту ночь мама горько оплакивала потерю среднего сына. Отец много дней ходил с каменным лицом. По вечерам он включал погромче радиоприемник, встроенный в деревянную панель; увы — в промежутках между репортажами о маневрах приемник выдавал исключительно помехи. Я поставил в комнате Ахмеда кувшинчик с горными маргаритками, но они почти сразу завяли от невыносимого света.
Когда через несколько месяцев Ахмед приехал проведать нас, я спросил о собаке. Я обожал ее; мне было жаль, что она ушла с Ахмедом.
— А, собака! — протянул Ахмед. — Собака потерялась на пути в Фес. Убежала куда-то. Но я себе почти сразу новую завел, породистую.
Годы спустя, уже встав на ноги и остепенившись, мы возобновили спор о наших достойных ремеслах. Ахмед к тому времени не только прошел все стадии ученичества, но и создал себе репутацию как превосходный мастер. Он даже получил награду за то, что выложил мозаикой бассейн для фонтана в Касабланке, в огромной мечети, носящей имя его величества короля. Мы все гордились Ахмедом; правда, я не мог понять, откуда у него стремление превозносить искусство мозаики за счет искусства рассказывать истории.
Вот что Ахмед написал в одном из писем:
«Умение рассказывать истории — мучительный дар, ибо рассказчика преследуют призраки и духи. Я бы предпочел чем-нибудь другим заниматься, чем-нибудь более реалистичным и значимым».
А вот что я написал в ответ:
«Не разделяю твоего мнения, ибо только любовь способна охватить и вынести справедливый приговор какому бы то ни было виду искусства. Твои оценки верны лишь в том случае, если ты наделен даром беспристрастности».
Ахмед ответил немедленно, длинной телеграммой:
«Я хочу как минимум оставить некий материальный след. Люди посещают дворцы, где я клал мозаику, и восхищаются моей работой. Я знаю: моя мозаика будет радовать людей и многие века спустя. Я бы не стал день за днем рассказывать истории и видеть, как слова мои тают в воздухе. Что в этом за интерес? Где неизбежные запахи дыма, горячей печи и глины? Где торжество, какое испытываешь, побеждая сопротивление материала? Пустой воздух материалом не считается. Эхо — тем более. Ты не видишь разницы между реальностью и ловкой выдумкой. Твоя работа — мираж. Это правда, хоть и неприятная. Когда человек всю жизнь только и делает, что рассказывает истории, реальность исчезает, и ее место занимает нечто другое, а именно — набор случайных подробностей, обработанных воображением».
Я не поддался искушению также ответить телеграммой. Хотя бы потому, что не мог себе этого позволить с финансовой точки зрения. Зато я написал письмо, и вот что в нем было:
«Даже твоя работа, дражайший мой брат, чистая фикция, просто тебе недостает смирения это признать».
Ахмед ответил:
«И где же в моей работе фикция?»
«Фикция, Ахмед, в твоей уверенности, что твоя работа сохранится навечно. Вот будешь следующий раз в Марракеше, сходи на развалины дворца Эль-Бади, которому в свое время не было равных по красоте, и вспомни, что сказал императору шут. А сказал он следующее: из этого дворца получатся великие руины».
Я ждал ответа, однако прошло несколько месяцев, прежде чем Ахмед подхватил нить нашего спора. За время молчания он переехал из Феса в Мекнес и там начал собственное дело. Он первый из нашей семьи поселился в кирпичном доме. Родители ездили к нему в гости. По возвращении отец с изрядной долей иронии обронил: «Материальные блага взяли верх над моим сыном».
В следующем письме, к которому не забыл приложить фотографию своего дома, Ахмед написал:
«Помнишь, что я много лет назад говорил о мозаике зеллий? Я сравнил ее с поэзией, только оценил еще выше. Так вот, Хасан, я по-прежнему так считаю».
Я ответил:
«Брат, к чему сравнения? Поэзия — это все, что представляется тебе возвышенным. Возвышенное доставляет наслаждение. Прочее — не более чем преходящие эмоции. Получай удовольствие от своего искусства, как я получаю от моего, и давай радоваться друг за друга».
«Искренне разделяю твое мнение, — написал Ахмед, однако счел необходимым добавить: — Я только что пристроил к дому третий этаж. Полы у меня покрыты мозаикой полностью, стены — на высоту плеча. Не следовало бы так писать, только мой дом — одно из лучших моих произведений. Местами узор создает сверхъестественные оптические иллюзии. Один мой друг, учитель математики, сравнил мои мозаики с фрактальными орнаментами; правда, я понятия не имею, что это за орнаменты такие. Амина, моя жена, утверждает, что от мозаики у нее голова болит, а все равно подругам хвастается. Мы, Хасан, будто во дворце живем. Приезжай — сам увидишь».
В постскриптуме Ахмед добавил:
«Пожалуйста, передай привет Мустафе. Не знаешь, чем он думает заняться? Отец в письме сетовал, что Мустафа все никак не определится. Скажи нашему брату, я с радостью возьму его в бизнес, если у него будет на то желание».
В книгах написано, что некогда многочисленное племя атласских львов во времена римлян сократилось до нескольких десятков изможденных особей, которых содержали в неволе и использовали в гладиаторских боях. Ахмед однажды поведал мне, что римские руины в селении Волюбилис, что близ Мекнеса, до сих пор, если верить местным жителям, ночами оглашаются ревом пленных зверей, павших жертвами кровожадности одного безумного проконсула. Местные, сказал Ахмед, по ночам страшатся развалин как чумы. В других книгах есть свидетельства, что последний атласский лев — великолепный зверь с темно-рыжей гривой, подобно бороде окружавшей морду, — погиб в 1922 году. Однако Абдулхалек и Фаталла, наши деревенские пастухи, утверждают, будто с наступлением темноты на горных склонах эхом отзывается львиный рев. Абдулхалек и Фаталла оба люди достойные — нет причин сомневаться в их словах. Вдобавок имеются и другие доказательства. В соседних селениях, да и в окрестностях водопада, что извергается с горы Capo, то и дело пропадает скот — кто, как не львы, в этом повинен?
Группа зоологов из Рабата, воодушевленная слухами, провела в нашей долине несколько месяцев. Зоологи расспрашивали пастухов и ходили по следам, безосновательно сочтенных львиными. Правительство поддержало их, назначив внушительное вознаграждение. Правительству требовались вещественные доказательства: останки зверей, черепа, кости, отпечатки лап, фотографии. В окрестных селениях поднялся изрядный переполох. Зоологам были представлены многочисленные объекты. Например, торговец из долины Дадес притащил прекрасно сохранившуюся шкуру; правда, после выяснилось, что шкуру он украл у берберского вождя, который, в свою очередь, купил ее в мавританском караван-сарае. Один житель долины Тодра явил целый комплект клыков; увы — находке оказалось более ста лет. В конце концов рабатские зоологи прекратили поиски, так и не придя к определенному выводу, однако обещание правительственной награды за вещественное доказательство осталось в силе.
Мой одиннадцатилетний брат Мустафа услышал о награде от чиновников, что были в нашем селении проездом. Один чиновник упомянул награду отцу. Речь шла о крупной сумме; Мустафа развесил уши.
— Кто это — атласский лев? — спросил он.
Отец рассмеялся.
— Это, сынок, единственный крупный зверь, что по сию пору встречается в наших горах. Остальные давно истреблены.
— А как же атласский медведь и атласский леопард? — спросил я.
— На этих стали охотиться задолго до того, как взялись за львов. Их уже нет, — отвечал отец.
— А чем атласский лев отличается от простого льва? — спросил Мустафа.
Отец показал картинку в буклете, что оставил чиновник.
— Обратите внимание на густую гриву, — учил отец. — Она темно-коричневая, почти черная, а ближе к морде на ней светлая бахрома, которая спускается к брюху и тянется до задних лап. Атласские львы — самые крупные львы в Африке, — с гордостью добавил он. — Их ближайшие родственники — индийские львы, однако наши шире в кости, у них крупнее череп, не говоря уже о роскошной гриве. Поистине это великолепные создания. Римляне их сотнями ловили. Травили ими назаринов.