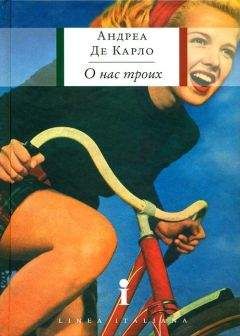Мать Мизии была красивой белокожей блондинкой; в ее глазах светилась странная одухотворенность, почти как у дочери, но с оттенком фанатизма. Помешивая в большой кастрюле кашу для своих домашних питомцев, она сказала:
— Не могу поздороваться, руки заняты.
— Ничего-ничего, — отозвался я, ища, куда бы поставить ногу среди судков, стаканов, яблок, кусков хлеба, коробок, старых газет, полупустых бутылок, книг в обгрызенных обложках.
Сестра Мизии все никак не могла наглядеться на мой берет и теперь вертелась перед стеклянной дверцей кухонного шкафа, заставленного тарелками и стаканами, и всякими лекарствами для животных. Это была красивая девушка с золотистыми волосами до плеч и жизнерадостным лицом, но она внушала мне нескрываемый ужас: в ней ничто не напоминало Мизию с ее жгучим, напряженным интересом к миру, с ее быстрым, точным умом.
— Я только хотел что-нибудь узнать о Мизии, — сказал я. — Вдруг вы недавно с ней разговаривали или представляете, где она может быть.
— Мизи. Ты ее друг? — мать Мизии обратила ко мне отрешенный взгляд святой или сумасшедшей.
— Да, — ответил я, все еще надеясь найти утешение в том факте, что именно здесь, в этом месте, Мизия стала такой, какая она есть.
Ее мать сняла с плиты кастрюлю с кашей и спросила:
— Поможешь?
Я принес ей несколько мисок и плошек, вытащив их из завала на столе, и она разложила в них дымящуюся кашу. Астра, сестра Мизии, забросила мой непальский берет в общую кучу и тоже стала помогать. Она смотрела на меня с какой-то детской, но лукавой настойчивостью, и от этого ситуация выглядела еще более странно; пару раз она как бы невзначай коснулась моей руки, задела меня бедром, она улыбалась и сразу отворачивалась. Домашние кошки и собаки вертелись вокруг нас, требуя еды; их уличные собратья толпой напирали на стеклянную дверь.
— Она недавно пропала и не дает о себе знать, — сказал я. — И где она, никто не знает.
— Мизи такая шустрая, — отозвалась ее мать. — Она всегда все так быстро понимала, даже когда была маленькая. Раз в десять быстрей, чем все остальные, но, наверно, от этого все ее проблемы и пошли. — Деревянной лопаткой она соскребла со стенок кастрюли остатки каши и стала дуть на полные миски.
— Она вам не звонила? — спросил я, задыхаясь от подступающей тревоги, словно меня засасывало в зыбучие пески. — Вы не знаете, где она сейчас?
Мать Мизии покачала головой, не спуская с меня своих голубых нездешних глаз: — С Мизи всегда было трудно разговаривать. Она всегда была такая непримиримая. И упрямая. Всегда задавала такие серьезные, важные вопросы, даже когда была маленькая.
Сестра Мизии вынесла в запущенный садик две еще дымящиеся миски; уличные собаки и кошки запрыгали вокруг нее. Мать Мизии крикнула:
— Астра, не давай пока, каша горячая! Подожди, пока остынет!
— Да знаю, мама, знаю! — отозвалась сестра Мизии и опять как-то странно посмотрела на меня через стеклянную дверь.
— Что ж, мне пора. Так или иначе, спасибо, — я отыскал свой непальский берет, весь перемазанный в каше.
— Поставь повыше, на ограду! — крикнула Астре мать Мизии. — И смотри, чтобы Тимпер не запрыгнул! Смотри, чтобы Бибо или Нина миски не перевернули!
— До свидания, — сказал я, уже двигаясь к выходу через гостиную. Я помахал сестре Мизии, но она меня не видела.
Мать Мизии, по-прежнему стоя среди собачьих и кошачьих мисок, улыбнулась мне бесконечно нежно и отстраненно:
— Приходи, когда захочешь.
— Спасибо, — я был уже у входной двери, уже у маленькой ржавой калитки и, наконец, на улице, среди маленьких ветхих домишек, в тоске и изумлении размышляя о том чуде, какое Мизия сумела сотворить с собой сама, без всякой помощи.
Как-то под вечер ко мне зашел Сеттимио Арки с двумя большими алюминиевыми коробками для пленки, водрузил их на кухонный стол и сказал:
— Ну вот. Готово.
— И как? — спросил я, сердито глядя, как он расхаживает по квартире и глазеет по сторонам.
— Вроде ничего, — ответил он, обшаривая мой пустой холодильник. — Конечно, не совсем рождественская семейная комедия и не для среднего итальянского зрителя, но вторым экраном, наверно, может пойти.
— Я спрашивал, как фильм, — сказал я, — а не как его можно продать.
— Я и говорю, — Сеттимио уже держал в руке последнюю мою шоколадку с малиновой начинкой. — Вышел вполне запредельный бред, если нам удастся его пристроить, глядишь, кому-нибудь и понравится.
Он прошелся по моей квартире-пеналу, жуя на ходу мою же шоколадку и, как всегда, чувствуя себя в гостях как дома.
— А Марко? — спросил я.
— Говорит, что слышать о нем больше не хочет. Говорит, фильм готов и теперь он к нему не имеет никакого отношения. Ты же его знаешь.
Я подошел, отломил от плитки два квадратика, пока еще что-то оставалось, и сказал:
— Когда я последний раз его видел, он прямо жить без него не мог.
— Да так оно все и было, — отозвался Сеттимио. — Было до самого сегодняшнего утра. Е-мое, он последние недели вообще по ночам не спал. А сегодня вот фильм закончил, и — бац! — все. Убудет с него, что ли, если кто-нибудь фильм увидит и что-нибудь о нем скажет. Художник, что с него возьмешь!
— Ага, — сказал я, хотя особой симпатии к Марко сейчас не питал.
— А еще я не понял, что за фигня там у них с Мизией приключилась. Рассорились, что ли? К нему-то с этим не подъедешь, но и без того ясно, что крышу у него совсем снесло. Они весь фильм друг от друга оторваться не могли, а в итоге выть хочется. Не знаешь, что стряслось?
— Нет, — отрезал я. — Не знаю.
— Ну и ладно, сами разберутся, — пальцы у Сеттимио были перемазаны в шоколаде. — Сейчас главное — понять, как запустить фильм, черт его дери. Не класть же его на полку после всего, что я ради него сделал.
От тона Сеттимио меня разбирал смех; единственным его оправданием был тот энтузиазм, с каким он участвовал в создании фильма, и тот факт, что, судя по его виду, он до сих пор был уверен в успехе по крайней мере на сорок пять процентов. Но когда он направился к выходу, унося две круглые алюминиевые коробки, меня вдруг пронзила мысль, что там, внутри, лежат полтора месяца жизни Мизии и тысячи биений сердца, мыслей, жестов, чувств Марко, хоть он бы никогда в этом не признался.
Под вечер я пришел к дому Марко и позвонил по домофону, хоть и знал, что он терпеть не может подобных сюрпризов. Марко сказал:
— Я сейчас спущусь, тут слишком тоскливо.
Я ждал его минут десять; когда он наконец спустился, вид у него был такой, будто его только что сняли с центрифуги — бледный, измочаленный.
Мы двинулись по узкой улице в сторону проспекта, туда же, куда в тот вечер умчалась Мизия на мопеде брата.
— Сеттимио говорит, ты закончил фильм, — произнес я.
— Ага, — сказал Марко. — Я бы мог возиться с ним еще целую вечность, но тогда бы вышла уже полная чума. Знаешь, есть такие, стремятся к абсолютному идеалу, а он все время ускользает у них из-под носа?
— И что ты теперь собираешься делать? — спросил я.
— В смысле?
— Ну, с фильмом. Кому ты думаешь его показать?
— Я не думаю его никому показывать, — сказал Марко, прикрыв глаза, словно все эти разговоры его уже достали.
— Но, может, им заинтересуется какой-нибудь фестиваль, или продюсер, или еще кто, — я не сомневался, что Мизия гораздо лучше сумела бы зарядить его положительной энергией; но ее не было, и мне казалось, что я должен хотя бы попытаться, сделать хотя бы малую толику того, что она сделала для меня.
Марко, как обычно, шел на полшага впереди, засунув руки в карманы и глядя себе под ноги.
— Фильм готов. И точка. Ничего я никому продавать не буду. Закрыли тему.
Мы молча шли по забитому машинами проспекту; я сбоку смотрел на Марко и не мог понять, какие чувства вызывает во мне его коренастая, напряженная фигура — скорее раздражение, понимание, сострадание, или еще что. А потом на углу улицы он вдруг обернулся ко мне и спросил:
— Как там Мизия?
— Понятия не имею, — ответил я с какой-то непонятной смесью облегчения и вновь проснувшейся боли.
— Как это не имеешь понятия? — Марко смотрел мне прямо в глаза.
— Я с ней больше не общался, — сказал я. — С того дня, после выставки. Когда ты пришел и сказал, что вы расстались. Когда ты сказал, что тебя это больше не касается.
— И ты ее не искал? — спросил Марко так, словно это я был во всем виноват, в том числе и в его нелепом упрямстве, и в нежелании говорить.
— Искал, конечно, — сказал я. — Ни ее брат, ни мать ничего не знают. Отец сбежал в Грецию и уже больше года не дает о себе знать. Коллеги из Флоренции тоже не в курсе. Мизия совсем одинока, ей некуда податься.
Марко отвернулся, как будто глядя на дорогу, но я видел, что в глазах у него стоят слезы, он сдерживался из последних сил. Я тронул его за плечо, он вздрогнул: