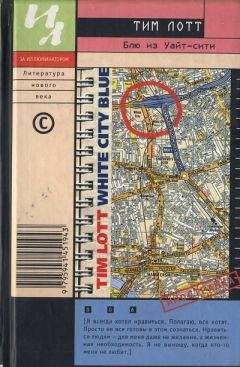С чувством вины мне удалось справиться без труда. Я знал, что с Мартином у них все в прошлом и что у нас с Элис никогда не будет серьезных отношений, так что это скоро закончится, никто не пострадает, а две одинокие души обретут временное утешение.
Только к концу второй ночи мы влюбились друг в друга.
Кто объяснит, как это происходит? Из кромешной тьмы надвигается грузовик с выключенными фарами. Я едва знаком с этой женщиной, бывшей подругой Мартина, очень милой женщиной, о которой я прежде почти не думал. А сейчас не могу выкинуть ее из головы.
Признаюсь, все это казалось подозрительным. Я понимал, что не следует особенно полагаться на чувства находящегося в разводе мужчины и только что пережившей разрыв женщины, но реальность была неумолима. У женщин действительно есть интуитивное знание, в чем прежде я, будучи мужчиной, сомневался. И это интуитивное знание единственно истинное, ибо оно исходит не из холодных, вентилируемых пространств мозга, а из горячих глубин сердца.
Я люблю Элис. А она – я это знаю – любит меня. Мы можем не отрываясь смотреть в глаза друг другу. Насколько я помню, с Бет мы этого не делали в последние пять лет нашего брака. Слишком откровенно. Слишком все становится ясно. Отведенный взгляд многое скроет.
Но в глазах Элис не было страха. Мы говорили друг с другом глазами.
Господи, какое это счастье.
Теперь я смогу наконец применить все, чему научился с Теренсом, что извлек из самоанализа, разгребая пепел своих прежних отношений. А научился я многому, и в этот раз все сделаю правильно. Элис будет первой женщиной, в которой я не разочаруюсь. Элис будет первой женщиной, которая не разочарует меня. Меня защитят Любовные секреты, извлеченные из затвердевших глубин моего прошлого. Я буду следовать им. Я созрел. В этот раз все будет хорошо.
Любовь обладает удивительной силой. Она взяла мое сердце – изношенное, иссушенное, израненное – и за одну ночь наполнила его жизнью, возродила, перекроила, раскрыла его плотно сомкнутые лепестки! Сердце человека может затвердеть. И может возрождаться бессчетное число раз. И оно так щемяще доверчиво.
– Что ты сегодня такой радостный? – спрашивает Бет подозрительно.
Я пришел к ним, чтобы забрать Поппи. Это мои выходные. Поппи не хочет идти, она жмется к матери, чего обычно достаточно, чтобы я почувствовал себя несчастным. Она прячется за своими светлыми волосами, уголки миндалевидных глаз опущены вниз. Она плачет.
Я переношу это спокойно. Пытаюсь отвлечь ее необычным для меня беззаботным и беспечным тоном. Судя по взгляду Бет, мое поведение кажется ей подозрительным.
– Пойдем, Поппи. Будет весело.
– Я ненавижу веселиться.
– А ты попробуй. Знаешь что, давай сходим на «Большое приключение»?
– Мне все равно.
– Пошли, малыш.
– Так что же ты сегодня такой радостный?
– А почему мне не радоваться? Пойдем, Поппи. Смотри, я принес тебе леденец.
– Я же говорила тебе, что у нее от этого зубы портятся. Купи ей яблоко.
– Не хочу яблоко! Яблоки плохие. – С этими словами Поппи бросается всем тельцем ко мне и хватает леденец.
Добрая старая взятка. Ее ничем не перешибешь.
– Сильно не задерживайтесь.
– Конечно, дорогая.
– Что?
От смущения я начинаю щуриться. Иногда я забываю, что ненавижу Бет. Мы стоим на пороге дома, в котором провели так много лет вместе с нашей дочерью. Внутри та же мебель, те же обои и занавески (мы откладывали раздел вещей, но посредники вынудили нас назначить это мероприятие на четверг). Иногда кажется, что все по-прежнему, ничего не произошло.
– Извини. Я не хотел…
По лицу Бет невозможно ничего понять. Затем она изображает улыбку.
– Все нормально, «дорогой». Желаю вам хорошо повеселиться.
– Мы постараемся.
Она целует Поппи, занятую своим леденцом, закрывает дверь.
Я рад, что по-прежнему являюсь для нее таким богатым источником переживаний. Поппи садится на переднее сиденье моего разваливающегося «ниссана», который я купил за пять тысяч фунтов. Машина проржавела, и в салоне плохо пахнет, но ничего лучше я не могу себе позволить. Надеюсь, что эти выходные она еще продержится. Я завожу мотор, и мы едем к Вестерн-авеню, где в бывших складских помещениях раскинулись аттракционы «Большого приключения». Поппи смотрит в окно, посасывая леденец.
– Пап, а почему у тебя в машине так пахнет?
– Потому что другая машина мне не по карману, малыш.
– У мамы в машине плохо не пахнет.
Я подавляю соблазн ответить: «Конечно, ведь папа отдал маме машину, которой всего год и у которой кожаные сиденья, так с чего бы в ней плохо пахло? В моей же, прошедшей долгий, тяжелый путь, пропитавшейся сигаретным дымом и едой, воняет ужасно – этакая смесь запахов трехдневной помойки дешевой забегаловки и содержимого аэропортовской урны. Я провел все утро, пытаясь вытравить эту вонь дезодорантами, чистящими средствами и шампунями, поскольку собирался ехать за Поппи.
– Почему бы тебе не заработать побольше денег?
– Я стараюсь, малыш, но…
– Что?
– Ничего.
– Пап…
– Да, милая.
– Меня тошнит.
– Это пройдет, милая, как только мы… О БОЖЕ!
Густой разноцветный водопад рвоты приземляется на коврике. Меня поражает ее количество и отвратительный запах. Нам кажется, что наши дети всегда останутся младенцами, у которых даже их какашки не пахнут противно, но они взрослеют. Они становятся людьми.
– Извини, пап. Не сердись.
– Почему ты мне раньше не сказала, что тебя тошнит?
– Прости, пап.
Поппи начинает плакать, на коврике куча блевотины, мотор «ниссана» издает странные звуки, и внезапно моя безмятежность улетучивается.
На уборку уходит не меньше пятнадцати минут, но теперь в машине пахнет не только куриными крылышками и окурками, а еще и рвотой. Зато Поппи полностью оправилась, она вновь увлечена леденцом. На улице дождь. Мы въезжаем на парковку. Какофония звуков «Большого приключения» оглушает меня. Ливень собрал внутри бывших складских помещений все семейства, живущие в радиусе десяти миль. Сесть негде, на полу обертки от еды и конфет, а аттракционы так забиты, что, кажется, вот-вот развалятся. Но Поппи хочется туда пойти, хотя, глядя на накатывающие массы визжащей толпы, она начинает чуточку нервничать. Что естественно. Тут даже морской пехотинец спасовал бы.
И все-таки она снимает туфли и носки, я плачу за аттракцион, и она устремляется к разветвленной конструкции из труб с мягкими шариками, сетками, воротами, веревками, бесконечными перекрестками; все это в моем воображении ассоциируется с трехмерным макетом детского мозга, выполненным из яркого пластика.
Поппи смело – она всегда была активным, энергичным ребенком – углубляется в трубу, уже заполненную клубком детских тел. Если бы Бет была здесь, она бы следила за Поппи, кудахтала, суетилась, но я считаю, что детей надо предоставлять самим себе.
Ищу, где бы присесть, и не нахожу. Люди вокруг будят во мне сноба: неопрятные женщины, неотесанные мужчины. Почти все мальчики в футболках и коротко острижены, у девочек бледная нездоровая кожа – их растят на чипсах и бургерах. Дождь смыл классовые барьеры между родителями-одиночками. В квартире есть только телевизор, видеомагнитофон да куча книжек, которые я купил, питая иллюзию, что Поппи предпочтет их красивым героям и сюжетам «Дигимона».[14] Но она скучает с книжками. Ей скучно в театре. И овощи навевают на нее скуку. И уроки скрипки. Ей скучен весь набор, изобретенный для среднего класса. Ей нравится смотреть телевизор и есть всякое дерьмо. Так что сегодня я поведу ее в «Макдоналдс» – туда она хочет, а здесь пусть растрясет жирок, приобретенный благодаря шоколадкам, рыбным палочкам и чипсам, которые она потребляет, когда проводит время со мной. Мне трудно отказывать ей, потому что она может закапризничать и не захотеть уезжать от Бет, и тогда я вообще ее потеряю.
Я совершил роковую ошибку, не взяв с собой что-нибудь почитать. Стою, опираясь о стену, и стараюсь не обращать внимания на крики. Я в тоске. Точнее, как в аду. Пытаюсь разглядеть Поппи в хитросплетении яркого аттракциона, но не вижу ее среди этих дьявольских каркасов. Иероним Босх швырнул бы свою кисть и сбежал бы. Отвратительная поп-музыка с жутким грохотом вырывается из плохих динамиков. Дородный, бритый наголо, молодой джентльмен сидит за соседним столиком и ведет искрометную воскресную беседу со своей стыдливой избранницей.
– Не хрена было начинать.
– Отвали, толстый ублюдок.
– Не смей мне указывать.
– Ой, как я испугалась.
– Поговори у меня.
– Я, блин, просто вся дрожу.
– А ты, мать твою, и должна дрожать.
И так далее. Я оглядываюсь, пытаясь отвлечься от этого диалога с сократовской логикой. В корзине для мусора оставленные газеты и журналы. Похоже, «Экономист» и «Нью-Йоркер» здесь не в ходу, а вот «Санди спорт», почти все ведущие бульварные издания, вариации на тему «Хелло!», «OK!» и «Чат» находят своих восторженных поклонников. Я беру экземпляр «OK!» и уныло его листаю. Непонятные типы и так называемые знаменитости демонстрируют свои загородные дома, тусуются на бессмысленных вечеринках с толпами Хьюго и Аннабелей, пасут стада Чолмондли-Уорнеров и Фитерстоунов.[15] Почему представителям низшего класса так нравится все это рассматривать? Меня тошнит. Почему так мало просто нормальных людей?