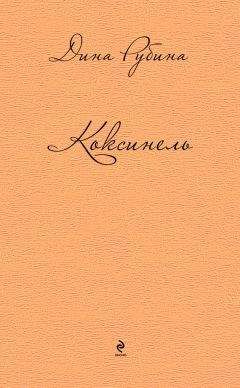Но мы обе немедленно потянулись к источнику благоуханного горячего воздуха и, обжигаясь и дуя на пальцы, оторвали по хорошему куску… Несколько мгновений моя гостья только охала, широко раскрывая рот и ладонью загоняя туда воздух.
– Не увлекайтесь, – предупредила я. – Помните о главном!.. Минут через двадцать грядет божественный суп в окружении грибных ангелов…
– У нас под Гродно были роскошные грибные леса… А что это они поют все время одну и ту же песню?
– Ну что вы… Это уже другая, «Гапринди, шаво мерцхало»… Слышите? Они замирают, сходят на pianissimo… и вдруг тоска вспыхивает, как пламя в очаге…
– Вот и Адам всегда называл меня глухарем и не понимал, как это можно одну мелодию спутать с другой…
– Вы бежали вместе с ним через подкоп, – сказала я утвердительно.
Она покачала головой, опять таинственно усмехнулась, погрозила мне пальцем:
– Вы хотите пролистнуть половину моей жизни и заглянуть в конец… Нет. Я не бежала с ним… Да, Адам пришел за мной ночью и просил, чтобы я ничего не брала с собой, ничего, шла так, как стояла, – в одной рубашке. Там, на другой стороне, нас должен был ждать с какими-то вещами Федя, сын кузнеца, дружок Адама… Но… мама сказала папе: как так, он еще не просил ее руки, не сватался, не говорил с нами! Нет, Мирьям – девушка из хорошей семьи, а не шлюха какая-нибудь! Она не побежит за ним в одной рубашке!.. Мама всегда была у нас очень… как это сейчас говорят… авторитарной. Это она настояла, чтобы папа согласился войти в юденрат… ей казалось, что так она спасет всю семью… Я видела по папиному лицу, что он не прочь меня отпустить, и я рыдала и билась, как связанная овца… Но ничего мне не помогло… Сейчас даже странно – как это я не убежала с ним… Так просто: повернуться, схватить его за руку и убежать… Иногда просыпаюсь ночами и представляю, как отворачиваюсь от мамы, хватаю Адама за руку и мы бежим, бежим, бежим!.. Я отворачиваюсь, и мы бежим!.. Отворачиваюсь… и – бежим!.. Но тогда я и вправду была хорошей дочерью. Я только плакала, горько плакала… И Адам стоял бледный как смерть и смотрел на меня такими глазами, будто хотел этими глазами унести меня с собой. А мама была – кремень. К тому же она боялась, что мой плач разбудит всех вокруг, и велела Адаму убираться… Он повернулся, ударил кулаком по двери и ушел… И все… И больше я не видела его… До самой смерти.
Из кухни показалась Ольга с подносом, на котором курились две маленькие Фудзиямы…
Я обескураженно глядела в рассеянное лицо старой, явно безумной женщины, перепутавшей все нити своей судьбы: гетто, смерть мальчика, которого она упорно называла мужем, но никогда не была на его могиле, их, очевидно, загробную жизнь в Иерусалиме и даже этот полуподвал со старым музыкальным мастером, возможно придуманным ею по ходу дела…
Полная чехарда в ее голове с ежиком серебристых волос и меня привела в смятение. Сейчас я уже не знала, как пристойней завершить это случайное знакомство. Да и смирная ли она? А вдруг она подвержена приступам?
Мирьям блаженно склонилась над горшочком, окунула лицо в жемчужный пар, замерла с прикрытыми глазами…
– Боже… – проговорила она. – Что за упоительный запах… Настоящий грибной суп!
Вздохнула и взялась за ложку…
Вновь с крутых беленых небес грянул хорал запредельной любовью, тенор вился, ласкался к басам – то ли прощение вымаливал, то ли пытался удержать ускользающую радость: «Добрый, прекрасный, юный… Благоуханный плод, взращенный в раю…»
– И больше я его не видела до самой своей могилы, – проговорила она вполне деловым тоном.
Я окоченела. Подумала, не попросить ли Ольгу сменить хорал на что-нибудь легкое, из европейской эстрады… Мягко и сочувственно проговорила:
– Понимаю вас…
– Ни черта вы не понимаете, конечно, – спокойно отозвалась она, прихлебывая с ложки с таким аппетитом, таким здоровым удовольствием на морщинистом лице, что вся эта картина показалась мне ошибкой звукооператора, записавшего на бытовой зрительный ряд текст из совсем другой, трагической и безумной киноленты…
– Главное, я сама не понимаю, к чему вам вся эта история. – Она подняла брови, когда-то наверняка длинные и густые, ныне тщательно реставрированные черным карандашом. – И с чего это меня сегодня так развезло… Не с бокала же вина… Если б вы знали, сколько я могу выпить без всякого ущерба госдепартаменту! – И постучала согнутым пальцем по собственному черепу. Ее морщинистая щека смешно, по-детски оттопыривалась справа непрожеванным куском лаваша. – Видели бы вы, сколько выпивали мы с Адамом за вечер в одном ресторанчике в Бергамо… Мы любили там бывать, у синьора Марчелло… Раз восемь приезжали. Если уж есть рай на земле, доложу я вам, то он расположен как раз в Бергамо, на вершине холма, в Старом городе… Здесь можно курить, как вы думаете?
Вот этого еще моей астме не хватало – чтобы меня обкурила до приступа старая сумасшедшая приблуда… Я выразительно замялась, как делаю всегда – чуткий курильщик понимает и смущается, – но она уже достала пачку сигарет, зажигалку… Закурила…
– Ладно. – Она длинно выдохнула, разгоняя ладонью дым. – Вот вам история Адама… Он не любил ее рассказывать, о многом, как понимаю сейчас, умолчал. Никогда не отвечал на мои прямые вопросы, а я сразу умолкала, когда видела на его лице это выражение… знаете, бесконечной усталости… безысходности… не знаю, как сказать точнее, но чувствовала этот миг печенками! А потом… после… ну, когда он исчез окончательно, я обнаружила, что его история похожа на брюссельские кружева – дырки, дырки и сплетения множества нитей… Так вот, он ушел через подкоп и с Федей бежал к партизанам. Но сначала его не принимали в отряд, прогоняли – на черта ты нам, говорили, сопля жидовская, даже оружия у тебя нет… И вот дальше – дырка, очередной узор в кружеве… Как он добыл оружие – не знаю. Вроде бы выследил немца… С полгода сражался в отряде и никогда не знал, с какой стороны следует больше бояться пули…
Потом пробрался в Польшу, оттуда – во Францию… Там несколько месяцев воевал в одном из отрядов Сопротивления и… ну, это опять некая дырка в кружевах, только с тех пор он не любил французов и называл их говнюками… А, вспомнила: однажды, говорит, я оглянулся вокруг и удивился: почему в нашем отряде есть кто угодно – поляки, армяне, евреи, украинцы, чехи… и так мало французов? И с чего это, подумал, я голову кладу за то, чтоб одних говнюков избавить от других говнюков?.. Потом он рассказывал еще кое-что: вроде спустя много лет те, кто выжил после расстрелов, свидетельствовали о случаях, когда команда «пли!» раздавалась по-французски… Говорил, что была такая дивизия в СС под названием «Викинг», формировалась она в Норвегии, но входили в нее добровольцы из разных стран, то ли покоренные мечтой фюрера, то ли в стремлении к наживе… Эта вечная грязная накипь народов, знаете… жажда крестовых походов, не важно в каком направлении… Так вот, в составе этой дивизии, говорил он, было много французов… Лично я считаю, что подонков хватает у кого угодно, только Адам к этому относился иначе. В этом он был непримирим! Говорил – они своим женщинам головы, головы за связь с немцами брили, вместо того чтоб у них прощения просить, вояки херовы! Знаете, он потом и в Париже – в Париже! – не любил бывать… А я так люблю Париж… это были вечные семейные скандалы…
Так вот, он решил пробираться в Эрец-Исраэль. Уж погибнуть, говорил, так за своих… Но еще на несколько лет застрял в Европе: в составе этих секретных групп разыскивал и собирал тех, кто спасся из нацистских лагерей, и переправлял их в Эрец-Исраэль на латаных суденышках… Кстати, многие пробирались пешим ходом – через Румынию, Польшу… Вам известно, что с сорок четвертого по сорок восьмой год «Бриха» переправила порядка двухсот пятидесяти тысяч евреев в Палестину? Тебя я даже не высматривал, говорит Адам, знал, что погибла вся семья… И это было правдой… Ну, а потом, когда в сорок восьмом Израиль был провозглашен и сюда хлынули со всех границ сразу пять армий, он воевал здесь… Вы видели, конечно, останки грузовиков, что выставлены вдоль шоссе на Тель-Авив? Их называли «сэндвичи», потому что фанеру обшивали на живульку листами железа… Вот в таком «сэндвиче» Адам возил продовольствие в осажденный Иерусалим… И в Шестидневную воевал, конечно, тоже… Раза три был ранен… А в перерыве успел закончить университет, потом аспирантуру… Адам был выдающимся биологом, это между прочим, профессором в институте Вайцмана, заведующим лабораторией… Ну а в Войну Судного дня воевал уже его сын Гидеон. Гиди хороший мальчик, сейчас ему пятьдесят пять, у нас вполне приятельские отношения… Вот как раз он и должен был сегодня меня встретить и доказать, что Адам не бросил меня, не смылся к какой-нибудь курве, а лежит как приличный человек в приличном месте… Но Гиди приболел… Сердце у него пошаливает… Надо делать «центур», я уговариваю, а он все тянет…