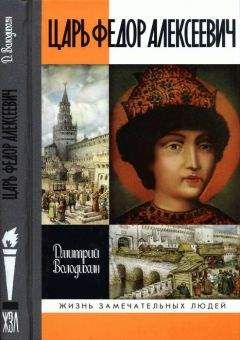Он говорил желчным голосом, нисколько не заботясь о репутации жалкого в своей доброте и непротивлении Чернышова, рассчитывая, что выговор этот будет воспринят и Битвиным и, несомненно, Дроздовым, которому не без цели нашел нужным мимоходом польстить.
И Дроздов понял это.
— Глубоко ошибаетесь, Филимон Ильич, — сказал он внятно. — Я соперник только вашего комплимента!
С ненатуральной улыбкой, обнажившей бледные десны, Козин оглянулся, помахал около виска ручкой: «Адью, адью!» — и сейчас же как-то послушно и испуганно скроил улыбку Чернышов. Его полнокровное лицо с капельками не то слез, не то пота было обмыто тоской гибели.
«Надо ли было приходить? — подумал Дроздов с испорченным настроением. — Для чего Чернышов так широко пригласил всех? Неужели он не понимает, что это фальшивое объединение, в сущности, ничего сейчас не значит? Он глуп, хитер или слишком расчетлив? Как грустно все-таки, черт возьми! И Тарутин снова пьян».
Он недовольно посмотрел на него и с удивлением поправил себя: нет, по всей видимости, Николай не был пьян. Он, покойно усмехаясь, стоял в окружении Гогоберидзе, его скромной жены, взволнованного Улыбышева, до такой степени жарко говорившего, что от перевозбужденных жестов воротник затерханного пиджачка налезал углом на его худую шею.
— Нодар Иосифович прав, мы ваши друзья, мы вас любим! Но вы никого на свете не признаете! — вскрикивал срывающимся тенором Улыбышев. — Я могу им в лицо крикнуть, что вы честнее их! Но вы ведете себя, как ницшеанец, вас даже называют грубым, циничным человеком! Неандертальцем! Они вас возненавидят! Они не понимают! Они будут сводить счеты с вами! Мне это больно! Неужели вы так надеетесь на свою силу? На свои бицепсы, да? В науке — это доказательство? Вы сами меня учили, что факты…
— Ну, хватит, парень, хватит бить копытами, — сказал Тарутин и, мягко взяв за ребяческие плечи Улыбышева, подтолкнул его к столу, где продолжали есть и пить «а-ля фуршет», иногда с остреньким опасением поглядывая в сторону Тарутина. — Иди-ка, Яша, к столу и принеси-ка мне бутылочку шампанского, если еще осталось среди этого жрущего царства. На худой конец — сухого вина.
— Не ходи, не ходи! Он готов! Ему не надо! — взбудораженно воскликнул Гогоберидзе, озираясь на столпившихся вокруг стола коллег, разъяренным взглядом отталкивая их неприязненное любопытство. — Ты — гордыня, выщипанный павлин, хочешь возвыситься над всеми? — закричал он шепотом в лицо Тарутина, и растопыренные пальцы штопором взлетали, взвинчивались в воздух. — Ты наживаешь поголовных врагов! Ты ущипнул и Игоря, Игоря! Он либерал? Я перестаю тебя понимать! Ты — мастер наживать себе врагов! Хочешь быть против всех? И против друзей?
— Разве? А хрен с ними, с врагами. А Игорь над схваткой. Он не в счет, — ответил Тарутин с легкомысленной убежденностью и заботливо оправил на Улыбышеве поношенный пиджачок. — Паря, ты медлишь. Давай к тому столу. Ты перестал выполнять мои приказания.
Улыбышев, несмотря на частые несогласия с ним, верный и преданный ему, кинулся к столу, всегда нацеленный с радостью выполнить любую просьбу своего кумира, влюбленный в его таежное прошлое, в его независимость, всегда готовый спорить с ним и самоотреченно защищать его от нелюбви и нападок.
— Нодар, у меня нет врагов, у меня лишь недруги, — сказал Тарутин и засмеялся.
Но за этим его смехом угадывалась до предела скрученная внутри ненависть, удерживаемая от разжатия каким-то последним крючочком, сохранявшим прочность неимоверным усилием.
— Николай! — позвал Дроздов, подходя с рюмкой к нему.
И он, полуоборачиваясь, отозвался беспечным голосом:
— С утра был им…
Дроздов приготовлен был спросить, не пора ли им исчезать «по-английски», не пройтись ли пешком по московским улочкам, не проветриться ли после духоты, но почему-то произнес совершенно другую, насильственную фразу:
— Как чувствуешь себя, Николай?
— Отлично. Хорошо. Даже, можно сказать, удовлетворительно! Продаю патент на остроту. Где шампанское, Яша?
Он взял бутылку шампанского из услужливых рук Улыбышева, подхватил чистый фужер и салфетку с тумбочки и, твердо ступая, пошел в дальний конец комнаты, где в углу под торшером сидела на диване Валерия в обществе экономиста Федяева, педантично модно одетого в кремовую тройку, элегантного от клетчатой бабочки на ослепительной рубашке, он женолюбиво мерцал голубенькими глазками и говорил, искусно владея голосом:
— Как только угроза нависает над миром, женщина во имя спасения рода человеческого должна стать во главе общества и, вне всякого сомнения, во главе семьи. Я — за матриархат. Почему бы вам не стать во главе института? Вы бы прекрасно…
— Вы об эмансипации? Но я бы не прекрасно… — Валерия отвечала невнимательно, с любезной рассеянностью. Она лишь вскользь поддерживала разговор; в любимой позе своей закинув ногу на ногу, покачивая туфлей, она со стороны наблюдала гостей, словно вовсе не замечая той злобной напряженности коллег после того, что произошло здесь несколько минут назад. Когда же Тарутин с беспечальной решительностью направился к ней, наискось пересек комнату мимо всполошенно посторонившихся, как перед танком, гостей, она подняла глаза навстречу, казалось, через пространство ища его зрачки, и знакомая безбурная улыбка усталой от поклонников куртизанки заиграла на ее губах. Тарутин сказал:
— Мечтаю присоединиться к обществу луноликих красавиц. Позволите?
— Я рада, — ответила она. — Вы дурак, Николай.
— Вопрос по Козину: это вы сказали мне?
— Нет. Это я сказала Федяеву.
— Ой, как вы свили меня в веревочку, Валерия Павловна! Как мигом превратили в мальчика для битья! А я не хочу!.. — воскликнул с кокетливым страхом Федяев и вскочил, тряся бабочкой, начал пятиться от дивана. — Не смею быть лишним, не смею мешать… Миллион извинений!..
Тарутин мельком поддержал его:
— Прозой ты чешешь здорово. Да вознаградит тебя аллах лучшими гуриями из своего сада. Пока, медоточивые экономисты! Встретимся в сауне!
Валерия проговорила укоряющим голосом:
— Николай, все остроты уже были высказаны великими. Современный острослов — хорошо замаскированный плагиат. Не слишком ли усердно мы обижаем друг друга? — Она показала на место рядом с собой. — Посидите. И не уходите. Хоть вы и дурак порядочный. От вас скоро будут бегать, как от прокаженного.
— Благодарю, луноликая.
Тарутин склонил голову, постоял так в покорной позе, подчеркивая этой позой некую восточную признательность, затем с тем же идолопоклонством опустился на одно колено перед Валерией, спросил тихим голосом трезвого человека:
— Валерия, вы придете на мои похороны?
Она, без удивления принимая его шутовство, сказала с ласковой грустью:
— О, да. Вы хотите рассказать какую-то историю в стиле Эдгара По? Я слушаю…
— Я хочу выпить с вами шампанского, — проговорил Тарутин и слегка дрожащей рукой налил в чистый фужер зашипевшее пеной вино. — И по струям шампанского забраться вместе с вами на небо.
— Вряд ли удастся. Очень уж высоко. — Она взяла фужер, кипящий, стреляющий пузырьками, договорила легковесным тоном, какой в праздном разговоре установила с ним: — Зачем такие невыполнимые задачи?
Он возразил с убедительной бесстрастностью:
— Удастся в одном случае. Если я выпью шампанское из вашей туфельки. Можно, я сниму?
Она перестала покачивать туфлей, в ее серых глазах не было ни искорки смеха.
— Что с вами, Николай? Бедненький, что случилось? Вы здоровы? — Она наклонилась к нему, потрогала обратной стороной ладони его лоб. — Послушайте, Коля, вы весь как лед. Должно быть, пора уже, а? Давайте выпьем шампанского — и по домам?
— Я умру, если вы не разрешите снять вашу туфельку. Так можно? — повторил упрямо Тарутин, не стесняясь того, что в комнате отливом смолкали голоса, потом из тишины донеслась, наподобие мычания, чья-то непрожеванная фраза, произнесенная набитым ртом: «Это что же, до Кащенки так дойдем?» — и за столом зашелестел язвительный смешок, неприятно опахнувший враждебностью.
— Николай, я прошу вас, не надо этой шутовской куртуазности, — шепотом попросила Валерия и умоляюще, соучастливо положила руку ему на голову. — Вы ставите себя в неудобное положение. Встаньте, пожалуйста. Нас не так поймут. На кой черт вам моя туфелька?
— В золотой туфельке мы смогли бы взобраться на небо, — сказал Тарутин и, морщась, отклонил голову из-под ее руки. — Все правильно. — Он быстро поднялся с колена, выпрямил свой атлетический торс. — Так и должно быть. Понимаю, как я вам надоел. Вы правы. Как, впрочем, и все здесь, жрущие и пьющие ученые мужи. — Он с холодным бешенством оглянул спины гостей за столом, откуда по-мышиному пискнул злорадный голосок: «Чацкий!» — Мне приятно, что я вызываю у многих ненависть. Да, я удовлетворен, коллеги. И думаю, что все здесь будут не против, если я сделаю вам приятное… прыжок в космос один… без туфельки… вот из этого окна, — проговорил он мертво усмехающимися губами, указывая головой на пылающее в закате огромное окно над крышами. — И в том числе удовлетворены будете и вы, Валерия Павловна. Одним современным дураком станет меньше. И уж тогда кое-кто под победные колокола обвенчается с вами. Один из вдовцов, вполне достойных. Имеет право…