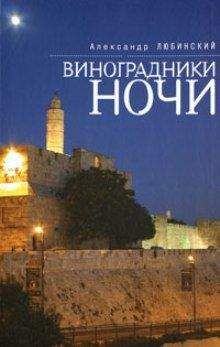— Ладно, давай. Сгодится на ночь.
Быстро и ловко накинула простыню.
— Отвернись.
И, не дожидаясь, стала раздеваться. У нее были крепкие груди и лобок с жесткими рыжими волосами. Откинув одеяло, легла на спину. С ненавистью к себе он почувствовал, как книзу прихлынула кровь, напряглось, возделось вверх. Он стоял посреди комнаты с разбухшим членом, глядя неотрывно на розовую плоть меж ее раздвинутых ног.
— Ложись, — сказала, и подвинулась к стене. — Вдвоем все же теплее будет.
Он раздел рубашку, снял штаны и трусы.
— Ого! Да ты не лыком шит! — протянув руку, мягко коснулась пальцами члена. — Давненько у тебя не было женщины.
И он лег рядом с ней.
На Эмек Рефаим — непрерывный поток машин вдоль неширокой улицы, но дома, и воздух, и деревья словно существуют отдельно, никак не реагируя на грозные приметы современного урбанизма. На углу возле магазина женского белья, где в витрине выставлено нечто кружевное, мягкое, бело-розовое, натянутое на безукоризненно-стройные пластмассовые ноги, сидит на складном стуле мой знакомец. Он в круглой шерстяной шапке, напоминающей те, которые носят правоверные мусульмане. Рядом с ним — железная вешалка с несколькими рубашками и кофточками. По-видимому, он их продает, но я ни разу не видел, чтобы купили хотя бы одну. Два-три раза в неделю я прохожу мимо него, и мы здороваемся. Иногда он заговаривает со мной, и я останавливаюсь, дабы поддержать разговор. Подымает на меня нестерпимо прозрачные синие глаза. «Привет! Несколько дней тебя не видел. Все в порядке?» Он сидит здесь весь день, общается с прохожими, попивает пиво, заедая огненным хумусом (однажды дал попробовать — я едва выжил). Рядом со стулом — потертая маленькая книжка: Тора. Он говорит библейским языком, и потому я с трудом его понимаю. На сей раз мы заговорили о смерти. «С этим трудно примириться», — сказал я. «Это нужно не понять, а принять», — ответил он и, приподняв руку, коснулся ею грязной куртки, там, где в глубине билось его сердце. «Если веришь, это нетрудно. Наг пришел, наг уйдешь… К чему вся эта суета?» Помолчал, повернул ко мне заросшее щетиной лицо: «Три месяца ночевал в машине. Теперь появилась комната. Это — жизнь…» Как всегда, подыгрывая ему, я с важностью пожал его руку, поблагодарил за беседу.
Слегка раздвинутые ножки в витрине как ни в чем не бывало выставляли напоказ свои прелести.
Он спал, уткнувшись лицом ей в затылок, в ее волосы — они рассыпались по подушке, невесомые и светлые, как сенная труха, и так же пахли сладковатой и нежной горечью. И потому, наверное, снился ему летний день, трава в выжженных августовских проплешинах, тропинка, полого спускающаяся к озеру, и женщина, выходящая из воды: в резиновой шапочке, темных трусиках и такого же цвета лифчике — она похожа на гипсовую фигуру физкультурницы на бетонном щербатом постаменте, что стоит у лагерных ворот. Это пионерский лагерь… Вот ведь, по другую сторону от нее безрукий пионер воздел к небу свою трубу — вместо рук у него — железные прутья, а труба — жива, и пионер все играет на ней, играет, наигрывает вальс… Нет, это не пионер играет — это в фойе столовой вечером из большого ящика раздаются скрипучие звуки, отдаленно напоминающие вальс, а мальчики стесняются приглашать девочек, возбужденно и тревожно щебечущих по углам, а потом объявляется белый танец, и девочки, одна за другой, пересекают заряженное электричеством, как магнитное поле, пространство зала, и выбирают мальчиков… И вот уже они — один за другим — неуклюже топчутся, раскрасневшиеся, смущенные, возле своих торжественно-грациозных дам. А этот стоит у стены, не выбранный и не выбирающий — как всегда, один.
…Он открыл глаза, потому что защемило сердце, и пока душа, еще сумеречная, возвращалась из своего путешествия, и проступали все четче и неотвратимей — стол и чайник, и потолок с лампочкой посередине, вкрученной в черный треснувший патрон (перегорела позавчера и все ввинчивал новую не поддавалась пока патрон не треснул вон она видна линия разлома), вдруг понял — во сне ли, наяву: это чья-то другая жизнь.
Женщина потянулась, протяжно зевнула, повернула к нему заспанное лицо: поперек щеки — розовая полоса от сбившейся наволочки.
— Привет, — сказал он. — Как поживаешь?
Улыбнулась.
— Хорошо. А как ты?
— Нормально.
Тронул острый сосок.
Отвела руку.
— Еще не устал?
— Не обращай вниманья… Условный рефлекс.
Поднялся, торопливо натянул под ее взглядом трусы и штаны.
Повернулась на спину, закинула за голову руки.
— А ты ничего… Нежный.
— Правда? Я рад.
— С тобой приятно. Мужики ведь по большей части ничего не могут. Да и не хотят. Лишь бы поскорей себя удовлетворить. Будто женщина какой-то сливной бачок.
— И из этого бачка рождаются дети… Странно, правда?
Села на край кровати, одним рывком поднялась. Она была высокая, выше него. Ребра выпирали, обтянутые светлой, с коричневыми веснушками, кожей.
— Знаешь, в чем твоя проблема?
— В чем же?
— В том, что слишком умный. Отбавить бы не мешало.
Влезла в трусы как ввинтилась в них. Надела через голову платье.
— Где тут у тебя чайник? А… вот.
И пошла к раковине в углу комнаты.
Сквозь платье просвечивала, словно прочерченная мастерской рукой, скользящая невесомая линия тела.
Потом они пили чай с засохшими лепешками лаваша, но все равно — было вкусно вот так пить вприхлеб сладкий чай, по очереди намазывая на хлеб тонко-тонко, чтобы хватило, откуда-то взявшийся кусочек сливочного масла.
— А зачем тебе столько книг? Все равно ты их не перечитаешь.
— Ты недооцениваешь меня.
— Если бы ты чего-то стоил, не жил бы вот так.
— Я стою. Только не здесь.
— Не в Палестине, то есть? Не среди своих дорогих собратьев по разуму?
— Я этого не говорил…
— А в Россию не хочешь вернуться? Ладно-ладно, — торопливо проговорила она, глядя в его мгновенно застывшее лицо. — Как знаешь… Может, тебе и впрямь лучше подбирать объедки на рынке.
Положил на клеенку недоеденный ошметок лаваша.
— Говоришь, богомолка приехала по линии церкви?
— Ну, да!..
— Сдается мне, ты приехала по другой линии.
Перестала жевать, нахмурилась. Носик напрягся, заострился еще больше.
— Я хочу тебе добра.
— В самом деле?
— Брось, пожалуйста, эти свои штучки! Ты можешь быть серьезным?
— Разумеется!
— Вот что, — проговорила она и встала. — Вижу, ты знаешь все лучше всех. Ну и сгнивай окончательно! Питайся своими книжками!
И направилась к двери.
— Погоди! — выкрикнул он, еще не успев подумать. И уже тише, — погоди…
Вернулась, снова села на стул; выпрямилась, сложив на коленях руки.
— Так говоришь, хочешь мне добра?
— Не веришь?
— Почему же… Все может быть. Даже ты можешь быть добрым ангелом.
Улыбнулась, снова пригубила чай.
— С крылышками, да?
— С сиськами!
Фыркнула. Перегнулась к нему через стол.
— Послушай, нужен человек, знающий языки и умеющий писать. Но только не трепло. Вообще, чтоб ты знал, трепаться — нельзя. Ты немножко дурачок, за тобой присмотр нужен. Но ты неопасный. Я так и скажу.
— Кому? Этому бритому черту в круглых очках?
— А хотя бы и ему.
Откинувшись на спинку стула, он глядел в окно. Белые дома, черепичные крыши, густая синева летнего дня. Вдалеке, на горизонте — сверкающий шлем Кипат ха-Села.
— Что молчишь?
— Думаю…
— О чем?
— Так… Мир большой, а деваться некуда… От себя не убежишь.
— И не надо! Набегался! Приходи сегодня вечером… нет, лучше завтра утром, часам к девяти в Мошаву Германит…
— Гидеон 12?
— О, да уже знаешь… Откуда?
— Бритый черт сказал.
— Отлично!
Встала, расправила платье. Направилась к двери. Остановилась на пороге. Хохотнула.
— А я к тебе буду заходить!
Сквозь платье просвечивала нежная, невесомая, словно прочерченная рукою мастера, линия тела.
В перерыве между дневной и вечерней сменой ел шварму за столиком на углу Агриппас и Кинг-Джордж. Самое бойкое место. Как и полвека назад. А чуть дальше, там, где была кофейня моего араба — глухая стена, огораживающая пустырь, переоборудованный в автостоянку. Пока сидел за столиком, мимо прошла монашка. Лет сорока. Худая и высокая, в темных очках, с черной прямоугольной сумкой через локоть. Заметила мой взгляд и продефилировала под его обстрелом, слегка покачивая бедрами, раздвинув в загадочной улыбке тонкие губы. Она вела себя как нормальная женщина, а черная хламида была лишь очередной экстравагантностью модельера.
Я доел свою питу, допил колу из пластмассовой бутылки, встал, надел рюкзак. Я кружил по улицам, пока не стемнело, а потом поднялся к Невиим. Ресторан уже был освещен по-вечернему, Лена и Игаль расставляли стулья и столы на веранде. Стенли в своем френче стоял возле гриля и подкручивал куски мяса, исходящие жаром на стальных, похожих на шпаги, шампурах. Если судить по количеству мяса, вечер ожидался бойкий.