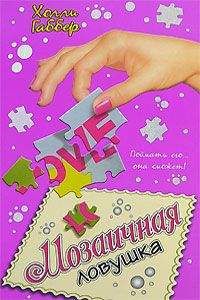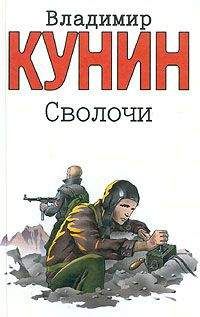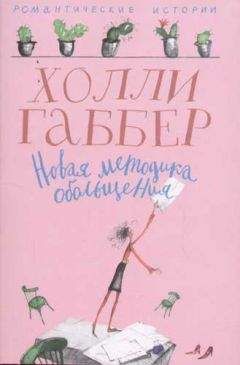– Ларри, неужели вы и эту не одобрите?
Металлическая вычурная ножка небольшого изящного светильника была стилизована под старую, покрытую патиной латунь. Стеклянный белоснежный плафон, опять же расписанный розами (но куда более высокохудожественными и нежными), по форме напоминал подснежник.
– Лучше предыдущих, но чересчур томная. Хороша для одинокой стареющей дамы, перечитывающей подле нее по вечерам любовные письма юности.
– Да ну вас! Вам не угодишь. А мне она нравится.
– А мне нет.
Саманта оглянулась: их спор на повышенных тонах привлек внимание продавщицы, которая смотрела на них с легкой тревогой, – видимо, беспокоилась за сохранность ее хрупкого товара.
– Давайте снизим громкость, Ларри. А то вон та милая девушка наверняка думает, что мы – ссорящиеся супруги. И в порыве ссоры можем грохнуть одну из ламп об пол.
– Если бы моя жена притащила в дом этот чугунный розовый куст, я бы в ней разочаровался.
– Это не чугун, а латунь. А я разочаровалась бы в муже, который оценивает жену по приобретенным ею вещам.
– А я вообще не снисходителен.
– А вам известно, Ларри, что вкус – понятие субъективное?
– Хороший вкус – понятие объективное. Но если хотите купить эту чугунину, пожалуйста.
– А у вас дома наверняка стоят статуэтки африканских божков.
– Стояли. Я от них избавился.
– А Эдгар По сказал: «Стилей столько, сколько вкусов, которые нужно удовлетворить».
– Весь здешний ассортимент – это не разные стили, а имитация стилей. Про вкус я уже все сказал. Удовлетворяйте свой вкус, Саманта! Покупайте. По крайней мере эта лампа лучше предыдущих. И очень пригодится вашему кузену, если он киллер: этой чугунной – простите, латунной! – ножкой ничего не стоит пробить висок.
– Отстаньте. Вы слишком требовательный.
– Вы сами взяли меня с собой. Все, я отстал.
Ларри демонстративно отошел к дверям и даже не смотрел в сторону Саманты, пока она оформляла покупку. Зато когда они выходили из магазина, он снова заговорил:
– Между прочим, я люблю свет. Точнее сказать, множество источников света. У меня дома масса ламп. Но я предпочитаю простые белые светильники – большие и маленькие, напольные и настенные, пузатые и каплеобразные – не важно. Главное, чтобы они были белыми и простыми. Больше всего я люблю простоту. В этом я последователь Мис ван дер Роэ.
– Ларри, мне стыдно, но я не поняла. Чей вы по–следователь?
– Мис ван дер Роэ. Это был не просто архитектор, это был революционер архитектуры. Он придумал удивительную вещь. Знаете какую?
– Какую?
– А вот.
Ларри протянул руку и указал на один из высящихся вдалеке зеркально-черных небоскребов Финансового квартала.
– Все очень просто, Саманта. И очень легко запомнить. Он придумал небоскреб. И это было гениально. Он долго развивал идею совершенной «универсальной формы» и наконец создал здание-параллелепипед со стальным каркасом и сплошными стеклянными стенами. Фактически он довел упрощение формы до предела. Но кто бы мог подумать, что это окажется таким выдающимся брэндом? Что кристаллические башни-призмы из стекла и стали буквально наводнят города в период пятидесятых—шестидесятых годов? Но это произо–шло. Он был гением… Что-то стало прохладно, вы не находите?
– Нахожу. Давайте заглянем к «Бенджамину»? Вон он, через дорогу. Посидим немножко, поболтаем. Вы никуда не торопитесь?
– Да, собственно… Все равно в это время мы бы еще играли. Можно и зайти.
Саманта мысленно послала воздушный поцелуй Оскару. Вздумай он сначала позвонить Ларри, ничего этого бы не было – ни похода в магазин, ни посещения бара… Кажется, она за один этот вечер продвинулась вперед настолько, насколько не продвинулась бы за месяц, продолжай они встречаться с Ларри только за карточным столом. А теперь появилась возможность аккуратно нащупывать точки соприкосновения.
«У Бенджамина», как всегда, было шумно, тепло и почему-то пахло корицей. Устроившись на табурете за стойкой, Саманта осторожно примостила рядом коробку с приобретенной лампой, развернулась к усевшемуся на соседний табурет Ларри и ласково улыбнулась:
– Возьмем что-нибудь горячительное, чтобы согреться?
– Да, конечно. Только сейчас, одну минуту… – Порывшись во внутреннем кармане куртки, Ларри вытащил свою визитку. – Держите. Чтобы найти меня в случае очередной форс-мажорной ситуации. Да, и еще…
Следом за визиткой из бездонного кармана была извлечена ручка: Ларри перевернул картонный квадратик и сзади приписал еще один телефонный номер.
– Это телефон моих родителей. На самый крайний случай.
Придвинув визитку к себе, Саманта несколько секунд разглядывала ее оборотную сторону.
– У вас удивительный почерк. Те цифры, что вы написали, практиче–ски невозможно отличить от напечатанных.
– А вот это как раз профессиональное. Говорят, в былые времена такими четкими почерками отличались чертежники и картографы. Ну а теперь практически никто вообще не пишет. Я имею в виду рукой на бумаге.
– А вы знаете, Ларри, что у Бальзака было странное хобби – он любил определять характер человека по его почерку? И вот однажды некая дама показала ему ученическую тетрадь и попросила определить характер мальчика – владельца тетради. «Не стесняйтесь, – сказала она, – это не мой сын. Так что говорите честно». Бальзак долго изучал тетрадь, а потом вынес вердикт: «Этот мальчик плох, глуп и ленив». «Странно, – заметила дама, – ведь это ваша собственная тетрадь детских лет»…
– Эту байку вам рассказал Серхио?
Саманта впервые с момента их знакомства смутилась – кажется, так оно и было.
– Честно говоря, я не помню, кто мне это рассказал.
– Я знаю про Бальзака более интересную байку. Он называл деньги шестым человеческим чувством, потому что они обеспечивают все прихоти первых пяти.
– Как приземленно…
– Зато верно. Давайте уже наконец что-нибудь возьмем. Хотите горячий ирландский крем-кофе?
– А что туда входит?
– Ликер «Бейлис», кофе и взбитые сливки. Очень вкусно.
– И очень просто – как все, что вы любите. Да здравствует минимализм. Давайте, попробую с удовольствием.
Напиток действительно оказался необычайно вкусным. Саманта отпила пару глотков и блаженно покачала головой:
– М-м-м… Вот настоящее чудо… Нет, Ларри, я не сошла с ума. Это фраза из рекламного ролика, в котором я снималась. Я в детстве дважды снималась в рекламе.
Ларри посмотрел на нее удивленно и впервые заинтересованно.
– Правда? И что же вы рекламировали?
– Сладости. Один раз земляничный джем, другой – шоколадный напиток. И сама я была этаким сладким пупсиком… Надо сказать, получилось неплохо. Я очень хотела стать актрисой, Ларри, но не сложилось. Больше меня не снимали.
– Отчего же, если получилось неплохо?
– Я неожиданно выросла и выпала из обоймы. – Саманта грустно засмеялась и положила в рот вишенку, украшавшую густую сливочную пену. – Я слишком резко перестала быть маленькой фарфоровой куклой и стала закомплексованным подростком. И интерес ко мне пропал… Знаете, у Феллини есть один фильм, снятый в жанре «кино про кино». Там речь идет о том, как в Италии тридцатых годов на знаменитой киностудии «Чинечита» снимают какую-то картину. В одной сцене молодой актер должен сыграть ужасное волнение и робость при встрече с женщиной. Но этот актер очень самоуверен: ему никак не удается достоверно изобразить юношескую застенчивость, он запарывает все дубли своей нагловатой улыбочкой. И вдруг режиссера, не знающего, как заставить парня смутиться, озаряет. Он говорит гримеру: «Нарисуйте ему на носу огромный прыщ. Тогда он точно стушуется так, что глаз не посмеет поднять!» И верно – этот прием срабатывает… Вот и я в переходном возрасте не смела глаз поднимать – такой уродиной казалась сама себе. Ну а потом жизнь стала делать разнообразные зигзаги, приоритеты сменились, и в итоге я стала телережиссером!
Ларри внимательно слушал, кивал, потягивая крем-кофе. Похоже, новость об артистическом прошлом Саманты его немного заинтриговала.
– Все-таки вы недалеко ушли от своей детской мечты – в конце концов, вы же не стали стоматологом. А я всегда хотел стать архитектором. И стал им.
– То есть продолжать семейные традиции не пожелали. Вы же говорили, что ваша мама – оперная певица. А вы не хотели пойти по ее стопам?
Ларри хихикнул и чуть не ткнулся носом во взбитые сливки.
– Даже если бы хотел – одного желания мало. Слух у меня еще туда-сюда, а голос вообще никакой. К счастью, мама оказалась достаточно умной женщиной, чтобы не учить меня музыке. Я ей года в четыре спел «Маленькую звездочку». Даже сейчас помню, как я старался… А мама горько вздохнула и сказала папе: «Я всегда думала, что музыкальный слух – это доминантный ген, который передастся моему ребенку наверняка. Оказалось, рецессивный»…
– И вы запомнили эти слова?!
– Нет, я запомнил, как обиделся и стал плакать. Я понял только, что меня обвинили в чем-то нехорошем – и незаслуженно. Но поскольку эта мамина фраза вошла в семейные предания, я впоследствии слышал ее многократно.