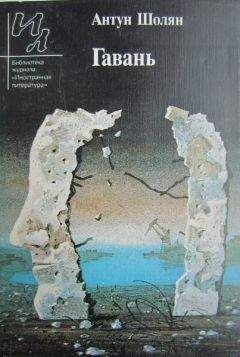— Чавчича?
— А, вы же не знаете. Чавчич — это отец… ну, той особы, с которой товарищ Деспот, во всяком случае публично, об интимной стороне я не в курсе, но публично поддерживает известные отношения. Сейчас, естественно, уже все вслух говорят, что это он делает ради нее. Такой уж у нас народ. Правда, он сам, собственноручно составил проект, как можно проложить дорогу, минуя часовню и, разумеется, тот дом.
— Может быть, эта особа и спуталась с ним именно с этой целью, — сказала Магда. — Он фантастически наивен, особенно в таких делах.
— Наивен, да, да, наивен, — повторил Грашо без особой уверенности. — Но тут еще один шаг, и поползет слух, что он подкуплен, вот в чем дело. Не ровен час, и его поведение начнут обсуждать на собраниях. Пока что я сдерживаю общественный скандал, но люди все валят в одну кучу, вы понимаете, что я имею в виду. Уже упоминается и товарищ Цота. Я лично не люблю, когда так легкомысленно выдвигаются политические обвинения. Дело приобретает политический душок.
— Что вы говорите, какие политические обвинения? — нахмурилась Магда.
— Пока, кажется, еще ничего страшного нет, но мы не гарантированы от разных глупостей. Я хочу сказать, люди уже говорят — рабочие, коллеги, — что он саботирует строительство, связался с местными кулацкими, буржуазными элементами. То есть с этим чертовым Чавчичем. Вы же знаете, ваш супруг мурвичанин, и его поступки могут быть истолкованы как результат здешних влияний, не только сентиментальных, но и других.
— Я думаю, вы сами понимаете, что все это просто смешно, — сказала Магда. — Цота от души посмеется, когда я расскажу ему об этом кулацком элементе.
— Ну конечно, — сказал Грашо, — я так же считаю.
— Меня меньше смешит другая его ребяческая выходка. Видимо, он потерял голову из-за этой девицы, и эта чушь с часовней просто следствие… недомыслия.
— Он от своего имени пригласил сюда специалистов. Налицо нарушение производственной дисциплины и субординации.
— Ну ладно, — сказала Магда, с облегчением улыбнувшись, словно все уже оговорено, — дисциплина! А что касается специалистов, с ними все улажено. Не так страшен черт, как его малюют, вы понимаете?
— Мне очень приятно было это услышать, — Грашо внимательно взвешивает ее слова, — из компетентных уст?
Грашо проводил Магду не просто до дверей своего кабинета, но даже вышел из здания бывшей школы. Они сердечно смеялись, пожимали друг другу руки, обменивались приветствиями, топтались на месте и никак не могли расстаться из-за переполнивших их взаимных симпатий. Поделили одежды мои.
Инженер наперед решил, что Магдину атаку выдержит смиренно, аки агнец, и сделает все, что в человеческих силах, чтобы ситуацию хоть временно подлатать. Магда пробудет здесь три-четыре дня, утешал он себя, три дня можно выдержать даже то, что свыше человеческих сил. Каким образом ее утихомирить? Прежде всего послушанием. Оно действует безотказно. Значит, надо пустить в ход хитрость, стать эластичным, не забывать лишь о своей главной цели — о сохранении часовни, а всем остальным придется пожертвовать.
Слушая Магду утром у Катины после ее разговора с Грашо и позже, за обедом в новой гостинице, он, воспользовавшись лукавством и ролью слабака и выпивохи, наблюдал за женой как бы с расстояния, издалека, изображая, что так же холоден и расчетлив, как она сама. Магде важно одно — чтобы безупречно функционировало наше небольшое семейное предприятие, в которое она вложила немалый капитал.
Моя карьера — читал он из этой перспективы на лице жены — стала смыслом и оправданием ее жизни, лишенной детей, любви, истинной близости. Супруга-профессионал. Мы даже ни разу вместе не напились. Никогда не воспринимали наши слабости как составную часть единого предприятия. Слабости, которых у него, например, уйма. И которые теперь вдруг иронически заявили о себе, которые предупреждают, что он уже не может жить по-человечески, что нет у него для этого ни храбрости, ни энергии, что он вконец распустился и что один, без помощи Магды, он обречен на разложение и гибель. И что поэтому ситуацию надо любой ценой подлатать. Сейчас хотя бы только с виду, на три дня. А потом, о господи, даруй мне еще хоть капельку свободы и сил, и я исполню этот свой единственный долг до конца и тогда безропотно покорюсь и вытерплю всю свою проклятую жизнь.
И поэтому Слободан услужливо кивал и открывал рот словно рыба на суше, что поделаешь, если я такой дурной! — катал хлебные шарики на скатерти и давал одно за другим обещания, словно штампуя их на конвейере. Крохотная фабрика обещаний, клятв, самобичевания и полу-обманов. До чего же это легко, думал он. Я даже не краснею. Будто никогда у меня не было ни крохи гордости: унижаюсь, винюсь, клятвенно уверяю, что больше не буду, признаюсь в своей глупости. Но вместо того чтоб возненавидеть Магду, он все больше испытывал к ней сострадание: вы только взгляните, до чего же все это ей нужно! Как она хочет мне верить! Как легко ее гнев сменяется ликованием при виде моей покорности!
Бедная Магда! Ее упреки становились все мягче.
— Да я и сама не верю, что ты сознательно связал эту часовню с домом Чавчича. На такое ты просто не способен, — ибо для нее безнравственная хитрость и умственные способности обозначали одно и то же. — Тебе не под силу и придумать что-либо подобное. А теперь сам убедился, куда завело тебя твое инфантильное беспутство. Где тебе тягаться с этой опытной гадиной, прошедшей сквозь огонь и воду и способной на все! И с чего это, скажи на милость, вдруг под старость потребовалась тебе бурная сексуальная жизнь! Что-то я раньше за тобой такого рвения не примечала! Маразм! А это твое упрямство, эта часовня и эта девка дорого тебе обойдутся. В общественном смысле! И это не мои выдумки.
— Да нет, я правда понятия не имел…
— Ясно, что не имел. Вот теперь и узнал, что она собой представляет.
— Не знаю, — Слободан, потупившись, пожал плечами, даже не покраснев от этого предательства, — прямо не знаю, что на меня нашло… но все будет в порядке. Дай мне несколько дней, и я все утрясу. Все будет в порядке.
— Я надеюсь, — пробормотала Магда.
После обеда, расположившись на отдых в полутемном номере с опущенными жалюзи, она разрешила ему к себе приблизиться. В знак примирения или хотя бы трехдневного перемирия (чтобы легче его выдержать) он пустился на предварительные квазинежности в надежде, что Магда его оттолкнет и отложит секс до лучших дней. Но, очевидно, и она решила наводить мосты; пришла к выводу, что щепетильная гордыня сейчас не самая важная вещь на свете. Она снизошла до него, конечно как бы оказывая ему милость, но все же. За свою гротескную попытку он не получил в награду даже спокойного сна. Какое-то напряжение висело в воздухе. Словно искупив этим актом часть своей вины, Слободан ощутил потребность пофилософствовать. Казалось, теперь он может свободно поболтать, не думая об обязательствах и своих миссионерских уловках.
— Я сам не могу объяснить свое поведение, — сказал он, сидя в постели. — Я пробовал. Снова попробую.
— Только не наживи грыжу от натуги, — сказала Магда.
— У человека не одна жизнь, — сказал Слободан, словно не замечая ее иронии. — И в этом все дело.
— Теория номер три, — сказала Магда.
— Ты не умеешь мечтать. Ты — реалист. Тебе трудно это себе представить.
— Мне хватает забот в одной, реальной жизни с тобой, — проворчала она.
— Может быть, и правда человеку необходим этот обременительный излишек мечты, — сказал Слободан. — Но судьба нам дарует несколько жизней: одному — три, другому — пять, кошке — девять. А мы с самого своего рождения делаем вид, будто перед нами всего одна. В этом что-то неестественное, нездоровое: как легко и неразумно мы пренебрегаем тем, что нам дано.
— Неразумно — это точно, — сказала Магда.
— Во всяком случае, весьма ограниченны возможности воспользоваться этими дарованными нам жизнями. Общество функционирует таким образом, что предоставляет каждому место лишь для одной жизни, одной профессии, одной жены, одной родины. И многие быстро забывают… что им дано. А некоторые всегда сознают наличие внутри себя и других жизней. И испытывают неудовлетворение от той, которой они живут, как бы хороша она ни была.
— У тебя всего было вдоволь, — холодно сказала Магда.
— И поэтому время от времени люди рассуждают так: может, я мог стать столяром, а не архитектором или рыбаком, а не преподавателем истории. Может, я мог бы прожить свою жизнь лучше в каком-нибудь другом городе, среди иных людей, с другой женой. По сути, человеку хочется и этой жизни, и той, а может, и еще какой-нибудь третьей. И вот в один прекрасный день до него доходит, что сложившиеся обстоятельства не дают ему воспользоваться всеми девятью жизнями, а обязывают жить лишь одной, одной-единственной жизнью, и когда он это окончательно поймет, будет уже поздно, выбора у него уже нет, изменить что-либо невозможно.