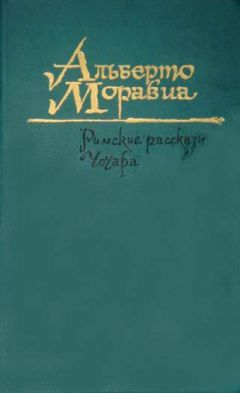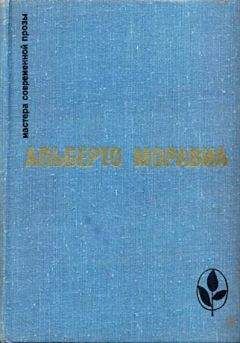Словом, он по-прежнему продолжал оскорблять меня.
Мы находились в уединенном месте, и луна, поднявшаяся за нашей спиной, освещала расстилавшуюся внизу равнину, окутанную белой пеленой тумана, лила свой свет на бурый кустарник и мусорные кучи, на отливавший серебром Тибр, который извивался под нами.
Я весь дрожал, мне казалось, что я продрог от холодного тумана, и я сказал, скорее для того, чтобы подбодрить себя, чем для Ригамонти:
— Что там, минутой раньше, минутой позже… Она здесь в услужении и должна дождаться, пока уйдут хозяева.
— Да вот и она, — отозвался Ригамонти.
Я обернулся и увидел темную фигуру женщины, шедшей по тропинке навстречу нам. Позднее мне объяснили, что сюда обычно приходят женщины известного сорта в надежде найти клиентов; но тогда я этого не знал и готов был поверить, что эта девушка вовсе не придумана мною, а существует на самом деле. Между тем Ригамонти, который был так уверен в себе, пошел ей навстречу, а я машинально побрел за ним. Еще несколько шагов, и она вышла из тени на свет фонаря. И вот тут-то, посмотрев на нее, я почти испугался. Ей было лет под шестьдесят. Страдальческие глаза, подведенные черной краской, обсыпанное пудрой лицо, ярко-красный рот, всклокоченные волосы и черная ленточка вокруг шеи. Она была из тех, что ищут себе уголок потемнее, чтобы их не могли хорошенько разглядеть; и в самом деле непонятно, как еще, несмотря на свой возраст и жалкий вид, этим женщинам удается находить себе клиентов. Между тем Ригамонти, еще не успев ее рассмотреть, с присущим ему нахальством спросил:
— Синьорина поджидает нас?
А она не менее нахально ответила:
— Конечно!
Но когда он наконец разглядел ее и сообразил, что ошибся, он отступил назад и сказал нерешительно:
— Ах, простите, сегодня вечером я как раз не могу… но вот тут мой приятель, — и, отскочив в сторону, исчез за насыпью.
Я понял, что Ригамонти подумал, будто я хотел отомстить ему, познакомив после стольких красивых девушек с таким чудовищем. И понял я также, что мое безупречное убийство сорвалось.
Я смотрел на эту несчастную женщину, говорившую мне с улыбкой, похожей на гримасу карнавальной маски:
— Очаровательный блондин, не дашь ли закурить?
И мне стало жаль ее, жаль себя и, пожалуй, даже Ригамонти. Перед этим во мне было столько ненависти, а тут она сразу куда-то пропала, слезы выступили у меня на глазах, и я подумал, что благодаря этой женщине я не стал убийцей. Я сказал ей:
— Закурить у меня не найдется, но вот возьми это; если продашь его, получишь не меньше тысячи лир, — и сунул ей в руку пистолет. Потом я спрыгнул с откоса и поспешил к аллее. В эту минуту, рассыпая во тьме ночи красные искры, прошел поезд на Витербо, вагон тянулся за вагоном, все окна были ярко освещены. Я остановился и смотрел, как он удаляется, потом прислушался к замирающему стуку колес и вернулся домой.
На следующий день в баре Ригамонти сказал мне:
— Знаешь, я чувствовал, что за этим что-то кроется… но неважно… все-таки ты здорово меня разыграл.
Я посмотрел на него и почувствовал, что ненависть моя к нему прошла, хотя он оставался таким же: тот же лоб, те же глаза, тот же нос, те же волосы, те же волосатые руки, которые он все так же выставлял напоказ, орудуя у кипятильника для кофе. И я сразу испытал такое облегчение, как будто апрельский ветер, надувавший тент перед баром, освежил и меня.
Ригамонти подал мне две чашечки кофе, чтобы я отнес посетителям, усевшимся на самом солнце за столик перед баром, и я, принимая чашечки, сказал вполголоса:
— Увидимся вечером? Я пригласил Амелию.
Он выплеснул в ящик под стойку кофейную гущу из фильтра кипятильника, положил свежий кофе, прогрел его паром и ответил просто, без всякой злобы:
— Сегодня вечером, к сожалению, не смогу.
Я ушел с чашками, испытывая что-то похожее на сожаление из-за того, что сегодня вечером он не придет отбивать у меня Амелию, как отбивал до этого всех других девушек.
Рождество, Новый год, крещенье… Когда в середине декабря начинаются разговоры о праздниках, меня бросает в дрожь, будто мне говорят о долгах, которые нужно платить, а денег нет. Рождество, Новый год, крещенье. И почему только эти праздники так и идут один за другим! Для бедняка, вроде меня, это прямо нож острый… Не то чтобы я не хотел праздновать светлое рождество, или Новый год, или крещенье, но дело в том, что в эти дни все торговцы съестным, как сущие разбойники, располагаются за углом улицы так, что наш брат приходит на праздник одетый, а уходит голый и ограбленный. Может быть, во времена царя Гороха рождество, Новый год, крещенье были настоящими праздниками и отмечали их скромно, но от всего сердца, — ведь тогда еще не было ни организации, ни агитации, ни эксплуатации. Но мало-помалу даже самые глупые люди поняли, что на праздниках можно нагреть руки; так оно теперь и делается. Праздники эти — для плутов, которые продают съестное, а не для бедных людей, которые его покупают. Часто я думаю, что, скажем, для пирожника, для торговца птицей, для мясника это настоящие праздники и даже вдвойне праздники, потому что, во-первых, это праздники, да к тому же еще в эти дни они продают раз в десять больше, чем в будни. И выходит, что бедняк справляет праздник впроголодь, с пустым карманом, за скудным столом, а они празднуют по-настоящему — с полным кошельком, за обильным столом.
Впрочем, чтоб вы могли убедиться, что я говорю правду, загляните-ка на улицу, где находится моя писчебумажная лавка. Тут рядышком разместились лавки колбасника Толомеи, торговца птицей Де Сантиса, пекаря Де Анджелиса и виноторговца Крочани. А ну-ка, что вы там видите? Горы сыров и окороков, тьму-тьмущую кур и индеек, корзины с пирожками, пирамиды графинов и бутылок; кругом огни, все сияет, люди входят и выходят непрерывным потоком с утра до вечера, как в каком-то морском порту. Так обстоит дело в этих четырех лавках. А в моей лавчонке все наоборот: тишина, сумрак, покой, пыль на прилавке; разве что иногда какой-нибудь малыш забежит купить тетрадку или женщина возьмет склянку чернил, чтобы записать расходы. Да и сам я похож на свою лавку — худой, голодный, в черном переднике, весь пропахший пылью и бумагой, вечно угрюмый, озабоченный. А по их лицам сразу можно сказать, что дела у них идут хорошо: такие они видные, румяные, жирные, самоуверенные, эти Де Анджелис, Толомеи, Крочани, Де Сантис. Всегда-то они веселы, все-то им море по колено… Эх, дал я маху со своей специальностью! От бумаги, печатной или писчей, немного проку — лавочники, сворачивая свои кульки, отпускают ее не меньше, чем я, продающий ее для чтенья и письма.
Так вот за несколько дней до Нового года как-то утром жена говорит мне:
— Слушай, Эджисто, какая прекрасная мысль! Крочани предложил собраться всем пяти коммерсантам нашей улицы с женами и устроить пикник по случаю Нового года.
— А что это такое, пикник? — спросил я.
— Ну, обычная вечеринка.
— Обычная?
— Да, обычная, но только на нее каждый что-нибудь приносит, и получается так, что каждый угощает всех и все угощают каждого.
— Это и есть пикник?
— Да, это и есть пикник. Де Анджелис принесет пирожки, Крочани — вино и шампанское, Толомеи — закуски, Де Сантис — индеек…
— А мы?
— Мы должны будем принести новогодний пирог.
Я промолчал. А она настаивала:
— Разве это не хорошо придумано? Так я скажу, что мы придем?
Я сидел у прилавка и разбирал пачку открыток с рождественскими поздравлениями. Наконец я сказал:
— Мне кажется, этот пикник не так уж справедливо придуман. У Де Анджелиса в лавке есть пирожки, у Крочани — вино, у Толомеи — закуски, у Де Сантиса — индейки, А что у меня? Ничего. Значит, пирог мне придется покупать?
— Ну и что ж тут такого? Они ведь тоже платят за свои товары, в лавке у них ничего не растет… Что ж тут такого?.. Вечно с тобой так. Вечно ты упрямишься, рассуждаешь, хочешь быть умнее всех. А потом жалуешься, что дела идут плохо.
В общем, мы изрядно повздорили. Наконец, чтобы прекратить спор, я сказал:
— Ладно, будь по-твоему. Передай ему, что я приду на пикник… Мы принесем пирог.
Тогда она посоветовала мне купить пирог побольше, по крайней мере кило на два, чтобы не ударить лицом в грязь. И я пообещал ей купить пирог побольше.
Канун Нового года я провел, как обычно, — продавал поздравительные открытки и рождественские картонные фигурки с изображением яслей Христа. А мои соседи продавали индеек и кур, пирожки и лапшу, ящики ликеров и дорогих вин, сыр и ветчину. Денек выдался прекрасный, и я, сидя в своей темной лавчонке, смотрел, как по улице в лучах солнца спешат женщины, нагруженные покупками. День и правда был прекрасный, день под Новый год в Риме, ослепительно синее небо, казалось, было из тончайшего хрусталя, а все предметы выглядели как бы нарисованными на нем яркими красками. Вечером, закрывая лавку, я сказал жене: