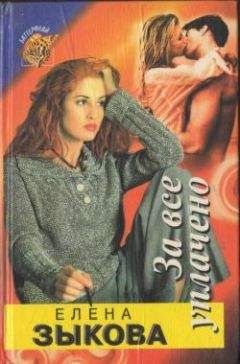– Прости, малыш. Просто ты ведь в первый раз уезжаешь – нужно ничего не забыть. А потом пойдем смотреть осликов.
– Хорошо.
Это последнее, что я помню. Последнее, что я хочу помнить. Последнее, что могу.
Нет. Еще могу рассказать про «Символ неба».
Это когда приезжает чужой человек и привозит ваши вещи.
Вы долго думаете, как же они могли оказаться у чужого человека?
Чужой человек говорит: это твое. Забирай, и пока.
Чужой человек хлопает дверцей чужой машины и уезжает по чужой улице.
Очень хочется закричать ему вслед: «Как же я могу с тобой прощаться, если мы никогда не были знакомы?»
Но чужого человека уже нет. Он уехал.
И ПУС-ТО-ТА.
Чтобы сделать хоть что-то, оглядываешься по сторонам. И понимаешь: чужой человек основательно испохабил жизнь – вокруг нет ничего родного…
Ничего такого, на что можно было бы посмотреть и оно оказалось бы прежним, привычным и успокаивающим.
Чужой мир крутится вокруг, крутится, сбивая с ног, оставляя только желание за что-нибудь ухватиться. Чтобы не упасть.
* * *
Девочка в колодце улиц… Сумка «Адидас», доверху набитая елочными игрушками.
Потная ладонь, сжимающая ручку…
Девочка, которая хотела посмотреть на ослика.
Девочка, которой не за что зацепиться, потому что вокруг ничего нет.
Поднимаю глаза на небо. Черт его знает почему, но поднимаю. А там среди рваных туч – синий лоскут. Крошечный. Почти незаметный, того гляди, исчезнет…
Но он прежний.
И я за него цепляюсь. Странно, но в эту секунду я совершенно точно осознаю, что если я не ухвачусь за этот лоскут – он пропадет.
Навсегда.
И я тоже – навсегда.
Днем позже, часом позже, минутой позже – слезы. Я же символистка. Но теперь легче. Теперь у меня новый стержень. И ему ничто не грозит ближайшие десять тысяч лет. У меня есть символ неба.
В се-таки некоторые женщины рождены для того, чтобы стать жертвами. Видимо, сама идея «приношения себя во имя Кого-Либо» так крепко впиталась в их кожу, что жизнь без показательного дара кажется им пустой и лишенной смысла безделицей.
Он завтракает и не знает, что в яичнице притаились Ее почки. Он пьет кисель, не подозревая, что стальной привкус вовсе не от вишни. Он ест пирог, не догадываясь, что это запеченная сердечная мышца…
Впрочем, когда-нибудь Он вырастет, потому что хорошо приготовленный женский организм – чрезвычайно питательная и богатая микроэлементами пища. И не важно, что Он будет каннибалом. В конце концов, у нее нет другой кулинарной книги.
Сцена первая
Она в больнице. Ей 17. Позавчера – полостная операция. Ходит крючком, а чаще вообще лежит. Он приезжает к ней в обед с бутылкой пива, пиво выпивает за то время, пока Она, скукожившись, ползет до столовой, чтобы принести Ему больничные щи. Он никогда не надевает бахилы, и поэтому после его ухода Она берется за тряпку, виновато улыбаясь соседкам по палате. «Принеси мне легких сигарет», – просит на лестнице. «Кури чего есть», – небрежно бросает Он и уходит. Она медленно поднимается наверх, держась за стену (такой противный этот наркоз!).
Ночью Она спустится сюда опять, снимет колпачок с синего маркера и, выбрав подходящее место на стене, напишет: «Мишенька, я так тебя люблю. Очень». Имя займет свою позицию среди десятка других, и пазл соберется.
Сцена вторая
Она дома. Ей 25, замужем, маленький ребенок. Сегодня – Восьмое марта. Он, кажется, перебрал с утра, и Ей немного стыдно перед гостями. Она хочет побыстрее сесть за стол, чтобы «немного стыдно» поскорее сгладилось и исчезло. Как только Она придвигает стул к краешку, раздается: «Принеси ликер». Она уходит на кухню за ликером, для того чтобы по возвращении услышать: «Захвати салат». Салат захвачен, но не хватает вилок, да и фужеры почему-то разные. Лезет на полку за фужерами, и в этот момент начинает плакать ребенок. «Описался», – говорит Он Ей, всучивает малыша в правую руку (левая по-прежнему держит фужер) и уходит. Несколько секунд Она стоит неподвижно, с ребенком в правой руке и хрусталем – в левой.
Через час на лестнице Она скажет мне: «Он обычно не такой. Ну ты понимаешь». Скажет и обидится, потому что я промолчу.
Через день на улице Она купит ему рубашку в клеточку. Он даже не обратит внимания.
Сцена третья
Она в метро. Ей 32. Забирала Его из школы. В Ее руках ранец, пакет со сменкой и сумка с едой. Точно усталая гора, нависает над своим сидящим чадом. Его ботинки грязные, и на Ее брючинах остаются пыльные полосы. «Ничего, приду домой, почищу», – думает Она и плечом отпихивает стоящую рядом девицу. Сейчас ведь такой страшный грипп!
Когда Она положит сумки в прихожей, на руке останутся следы пластиковых ручек. Выдавливая крем на ладони, Она будет размышлять о том, что приготовить на ужин.
Сцена четвертая
Она в морге. Ей 76. Вскрывая ее, патологоанатом давится бутербродом.
Внутри пусто.
Он снимает очки и надевает их обратно на нос, но это не помогает.
Зияющая пустота режет глаз своей неправильностью, и он, удивленно почесывая затылок, зашивает Ее темными нитками…
А что от ее любви осталось? Блеклые фрейдистские сны, засушенная роза на серванте и посаженная печень? Что вообще должно оставаться от любви? Петрова бы, наверное, сказала, что от любви бывают только дети и сифилис. Ну еще и алименты, пожалуй.
Дура она, Петрова эта.
А сифилиса у Маши никогда не было. И детей тоже.
«Маша, надо предохраняться! – учила Машу мама, бывший работник главка. – У нас в управлении у одной женщины дочка двойню родила».
Глядя на свое худое, покрытое ржавыми родимыми пятнами тело, Маша понимала, что двойню ей разместить негде, и шла в аптеку за презервативами. В первый раз было немного неудобно: она попала сразу же после перерыва, и толпа бабок с бесплатными рецептами здорово проехалась по ее персоне. А потом она привыкла и даже находила удовольствие в покупке латекса. Презерватив являлся гарантом социальной принадлежности влагалища, почище семейного фото в рамке. Кокетливо выпирающие из заднего кармашка пакетики напрочь отбивали вопросы подруг: «Как оно там у тебя вообще?» И не важно, что «вообще-то все было плохо», – резина говорила об обратном. «Я трахаюсь каждый день, – говорила резина, – каждую ночь и каждый вечер. Иначе зачем бы я лежала в этом самом кармане?»
– Действительно, зачем? – вздыхали подружки и провожали Машу завистливыми взглядами.
Иллюзия любви жила и в цветах. Но с цветами было хуже: во-первых, они стоили денег, а во-вторых, за их покупкой могли поймать. Что бы она тогда ответила? Что все авансы, премии и командировочные уходят на бутоны в золоченой обертке?
Но Васю родили именно цветы. Точно похотливый античный бог, он вышел из них и остался навсегда.
Это случилось зимой.
В тот день Маша была особенно несчастной: опоздавший троллейбус, потерявшийся отчет, традиционный выговор начальства.
Эмоции требовали выхода, и Маша спустилась к Петровой, чтобы поплакаться. Но и там ее ждал удар: вместо привычной изъеденной солями дружеской жилетки Машу встретил неожиданно кокетливый норковый жакетик с меховой розочкой у ворота.
– Лешка подарил, – ехидно осклабилась Петрова. – Говорит, чтоб не мерзла.
И было в этом «не мерзла» столько вызова, столько превосходящей неизвестно что бабьей сущности, что жизнь Машина померкла и опустела в один миг.
Она просидела на работе до вечера – все боялась, что откроет дверь, а там вместо колкого январского снега пустота пахнет ей в лицо и закрутит-завертит.
Но никакой пустоты не было. Даже наоборот. Ошалевшие от пришествия Нового года граждане довольно живо фланировали по улице, ругаясь на гололед и автотранспорт. Глядя на эти большей частью скучные, практически брейгелевские лица, Маша вдруг почувствовала себя лучше.
«В конце концов, это глупость – так поедать себя из-за какой-то меховой розочки, – рассуждала она по дороге домой. – Тоже мне, розарий ходячий…»
И словно в подтверждение своего флористического манифеста, купила она увесистую охапку невесть каких цветов. И желтые там были, и красные, и синие, и даже травка-метелочка была. Всё как у людей.
– Откуда? – спросила у Маши удивленная мама, запихивая вечернюю газету в карман халата.
– Вася подарил, – с вызовом ответила ей Маша и начала разуваться.
Так, неожиданно для самой Маши, Вася появился на свет и тут же начал жить отдельной, вполне самостоятельной жизнью.
* * *
Как и большинство мужчин, был он глуп своей мужской глупостью, но от этого еще более реален и значителен.
Как ни странно, главную особенность Васиного характера прежде всего разгадала Машина мама.
– Дурак он, Вася, твой, – добродушно сказала она. – Цветы-то перемороженные совсем.
– И правда, дурак, – радостно согласилась Маша. – Он меня в кино зачем-то пригласил. На послезавтра.