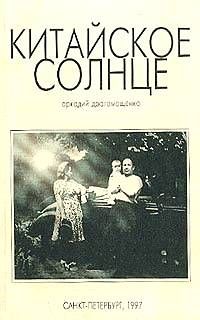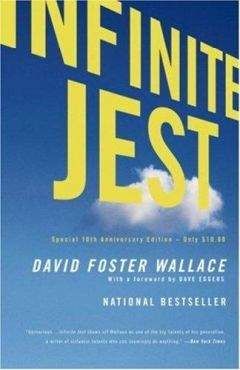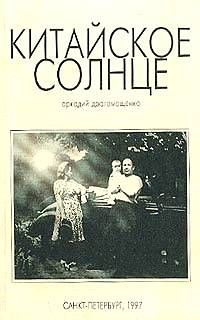Я замедлил шаг, а потом едва не остановился. Не помню, кто-то был, наверное, еще. Напомни, пожалуйста. Теперь-то самое время полюбоваться луной. Как та женщина в метро, с сумкой живых креветок и томиком Витгенштейна на коленях. Никчемность бумажного обрывка, его абсолютная ненужность возвела мусорный всплеск в ранг величественного расставания с привычными формами прежнего существования (две, три минуты тому или сорок два года — напряжение идентичности в очевидном осознании различия). Скажу от себя, с тебя станется. Не произнесенное ни разу не может быть повторено. Пространство между сознанием и телом остается культуре, четкам. Оставленность и пустынная заброшенность детства внезапно переместилась в иное измерение — было ли это временем, пространством, ожиданием, предчувствием, воспоминанием? Этот сдвиг не сулил ничего, кроме обыкновенного недоверия к происшедшему. Вопрос, однако, заключался в том, что "происшедшее" как бы вовсе и не произошло, потому что уже было в опыте как его нарастающее отсутствие, оно уже давно случилось, — нет, быть может, оно просто неожиданно отслоилось и стало быть само по себе, безо всякой нужды во мне. Впрочем, было бы ошибкой не учитывать и сложность узора воздушных потоков. Человек, с которым мы возвращались с какого-то не совсем нужного ему и мне поэтического чтения, и которого уже нет на земле, тоже взглянул вверх, его красные от недосыпания глаза в долю секунды оказались отмытыми наступающим вечером.
Если я не ошибаюсь, он сказал, что чужие города к концу дня становятся неимоверно огромными, безначальными, но длится это недолго, приходит ночь.
Вот, сказал он, приходит ночь, и ты не знаешь, что сказать, неизвестно как закончить то, что начал говорить, и поэтому ночью все начинается сначала. А как только ты начинаешь сначала, ты понимаешь, что обречен на бесконечные и пустые поиски, и тебе никогда не добраться до конца, хотя никакого конца не существует, это ты тоже прекрасно знаешь. Существует газета, летящая вверх, и мы, несущие свои тела вниз по улице и отчасти потому у истории нет никакого конца, история обречена на начало. Я не ответил ему, я был пьян. Он тоже. Мы никому не отвечали и смотрели на клок газеты, который ветер нес к еще светлым небесам Times Square, в которых сверкающий аэроплан по кругам тащил транспарант со словами: "…осталось перебирать четки, потому что руки коротки достать до кувшина".
Существование определяется собственной косвенностью "не-присутствия". Так понятней. Намного понятней. Это невозможно читать. В той же степени это невозможно и писать. Однажды на улице, после непродолжительной паузы сказал он, какая-то незнакомая девушка обратилась ко мне с вопросом: "а вы пишете?" — имея в виду, должно быть, пишу ли я в данный момент, то есть "работаю ли я над какой-то вещью", как было принято некогда говорить. Я посмотрел на нее как на идиотку, после чего, конечно же, почувствовал сильную неловкость. Среди идентичных "невозможно" находится единственная возможность, — моя. Как таковая, без каких-либо дополнений, определений. Вещи, если их возвращает огонь, различными способами свидетельствуют, что они существуют ни для чего. В этом заключается главный, первый и окончательный урок. Однако это назидание записано скверными чернилами. Что напоминают вам лежащие перед глазами пятна? Дом? Облако в виде рояля? Деньги? Детские сексуальные переживания? Статуэтку, изображающую Лао Цзы на спине буйвола, отбывающего в страны заката? Половые органы бабочек? Шепот Скарданелли (имя, бросившее вызов многим гимническим строфам), удваивающий бесконечное "да", и в этом удвоении исчезающий в материнской нежности "нет"? Кто там стоит у дерева? Стоит ли нам доверять свободе? Все размыто, и дороги, и склоны холмов, дождь следует долгу не прерывать сообщения ни при каких условиях — шелковый верх зонта темнеет. Темнеет день. Поэтому, гася окурок в непоправимо треснувшей чашке с остатками шоколада, можно (приподнявшись, протянув уже руку к книгам на столе, уже не здесь, а в измороси, на побережье, в коридорах нетрудной ходьбы, но еще тут, еще не окончательно выпрямившись, еще одной рукой сгребая мелочь со стола, еще) сказать — "старость антихронологична". Так история изменяет свою природу в некой, без конца становящейся, одновременности. Помнится, после, сидя в баре на Blicker St., мы рассуждали о тягостности привыкания к новым домам, где вещи очевидны, грубы, определены материей своего существа и предназначением, но, главное, расположением, поэтому, прежде чем взять чашку, вначале ее необходимо найти где-то на карте мысленного пейзажа, затем отыскать аналог в реальном пространстве, и лишь только после того с недоверием взять ее в руки, ощущая непонятное, слегка неприятное удивление от соприкосновения с предчувствием формы.
В Encinitas мне приснились похороны отца. Во сне со всей немыслимо неуместной телесной осязаемостью утверждалось, что дескать эти — последние. Окончательные. Переминаясь на месте и сутулясь от пронизывающего ветра и кашля, я равнодушно вспоминал, что в моей жизни их было предостаточно.
Некоторые годы проходили вообще без похорон, а в иные случалось, что они происходили почти каждое утро. Мы поднимались чем свет. Мать надевала платье, приуготовленное накануне именно для этого случая, широкополую шляпу из "рисовой" соломы с приколотым сбоку к тулье букетиком бархатных анютиных глаз, и мы рука об руку шли через весь город к одному из кладбищ. Теперь я понимаю, какие чувства мы вызывали у прохожих, например, в середине января. Но зато лето вознаграждало нас сторицей, мы бесследно терялись в утренней пестрой толпе.
Я стоял перед ямой, вырытой ковшом экскаватора поперек (это как настораживало, так и раздражало какой-то непроницаемой, злобной глупостью) грейдерного шоссе, перед собой же видел спины людей, в свой черед напряженно вглядывавшихся куда-то вперед, то есть перед собой. Как же так, задыхаясь от негодования, думал я — до каких пор, сколько раз это будет происходить? Каковы гарантии того, что эти похороны последние? Кто даст мне эти гарантии? Нет, не то чтобы это было чересчур утомительно, дело в другом, в присутствии откровенного привкуса какой-то безысходной халтуры.
Из разворачивающегося повествования сна постепенно становилось ясным, что его хоронят чуть ли не сто семнадцатый раз. На этот раз стояла сумрачная сухая, слегка морозная погода. В тот же момент, когда число себя утвердило в образе соломенного жгута (которым обвязывают ржаные снопы), я ощутил прикосновение серого льда к векам. Кто поручится, что этот раз последний, услышал я голос, могущий принадлежать по здравому рассуждению единственно мне. Чувствуя в груди недостаточность каждого вздоха, не сдвигаясь ни на дюйм, я произнес, якобы обращаясь к отцу, короткую, задолго до того подготовленную речь, содержание которой несколько устарело к моменту ее произнесения, но слов своих не расслышал из-за налетевших порывов жгучего ветра, однако по собственным губам успел прочесть то, как слова поштучно и с неизъяснимым хрустом покидали рот, где будто от запредельного холода крошились зубы. Сыпало изморозью. Сквозь иней, повисший в воздухе, вместо привычных российских ворон на сухих сучьях дерева я различил несколько иссиня-черных воронов, вокруг которых в неподвижных завихрениях расцветал покуда еще беспомощный холод. Наверное, посреди металлического, нескончаемого свечения дня, упрятанного в маслянистые складки сна, было нестерпимо душно. Возвращаясь к сказанному выше, хочется просто отметить, что ныне вещи стали проницаемы вдвойне — я нередко задерживаюсь перед тем или иным предметом, испытывая иной раз мало поддающееся описанию недоумение, иногда страх, поскольку исчезает их привычное сопротивление, как бы относившее на протяжении жизни от того, что, как подсказывало не утихающее подозрение, располагалось за стеной. Но и там, если суждено рано или поздно туда попасть, — как там удастся нам друг друга узнать? Где ни подобий, ни различий. А недавно я прочел несколько страниц из собственной книги, изданной, в общем-то, не так давно — и точно так же ничего не понял из того, что возникало перед глазами. По-видимому они желали иного. По-видимому они желали другого (повторения?). Никак нельзя было понять, чего именно. В обрывках их разговоров, обращенных неясным образом ко мне, казалось, иногда можно было угадать какой-то смысл и, действительно, наступали минуты, когда я уже был близок к тому, чтобы целиком с ними согласиться и разделить их ликование или… может быть, печаль (я ведь могу ошибаться), но, спустя несколько времени, я снова соскальзывал в омут невразумительности происходящего. Терпение их было безгранично. Солнце восходит, отчетливо повторял кто-нибудь из них. Люди заслуживают лучшей участи, подхватывал другой. Привлекательная женщина со смуглым лицом, (аметистовое кольцо, худые пальцы), сидевшая поодаль у двери, чаще всех обращалась к мысли о предназначении человека, об избранности определенного народа, о его сокровенной судьбе. Повторяю, мне хотелось с ними согласиться во всем, — разве кому-то известно, как мне необходимо согласие, пусть даже и такое, поспешное, — хотя при этом я недоумевал, почему человек заслуживает лучшей участи, почему должен быть избран — и, главное, кем? — какой-то народ, тогда как "сокровенная судьба" его вызывала в воображении странный образ незнакомого огромного здания с выбитыми окнами, черное тесто неподвижной толпы внизу и холодную звезду, дрожащую зеленой иглой в тягучем воздухе умиления и подлой ненависти. Но они меня будто переставали замечать, когда я, следуя им, тоже пытался что-то рассказать, например, о жасмине, о затаившемся в кустарнике дожде, о дворе, разделенном дощатым забором на две половины, о глубокой черной луне колодца, благоухавшей свежестью ночных цветов и петунии. Они кивали головами, делали вид, будто это для них имеет несомненное значение, но немного погодя снова перебивали меня нелепыми вопросами, хотя я, отчасти из-за духа противоречия, продолжал свое. Я сказал: наконец ты разобралась с цветами. Позолота верхней каймы на вазе кое-где отстала, темно шелушилась. На твоем мизинце угасал крохотный лепесток не то стекла, не то чешуи, отражавший прохладно-запавшее небо Петербурга, дом напротив, глядящийся в воды Гебра, простор улицы, тончайше вписанный в вечернее вещное бормотание, порождаемое лишь вот таким образом: в выпуклом зеркале меры сравнения, за пологом которого цвели розы дыма и несколько человек глухими голосами совещались о необходимости расследования случая гибели колесничего. Тебе нравилось, раздвинув ноги, уперев их на радиатор отопления, сидеть на подоконнике, лицом в комнату, и тебе хотелось, чтобы я обнял тебя, и чтобы (если кому доведется) кто-нибудь видел твою худую голую спину, позвонки и руки, обнимающие тебя. Ты говорила, что вот, они сидят там, далеко отсюда, в самых концах коридоров волшебных стекол, в комнатах, где, наверное, гуляет, натыкаясь на углы, ветер, и пьют вино, предаются завораживающим исчисленьям (довольно удачный пример того, как действует искажающая оптика), а может быть, оплакивают смерть попавшего под колеса щегла, или просто тупо сидят, потому что все закончено и в том числе день, и тем временем замечают меня, сидящую на подоконнике четвертого этажа, причем внизу не умолкает улица, с Литейного заворачивает очередной поток машин, и поначалу они думают, что это я сама себя обнимаю, и только спустя несколько минут кто-то из них нарушит молчание и скажет, смотрите, мол, какие длинные у нее руки, таких рук не бывает, так себя ни за что не обнять…, а потом, приглядевшись внимательней, раздевая меня дальше (несмотря на то, что на мне давно ничего нет; ты давно все уже снял, помнишь? — когда говорил о шелковых платьях…), они поймут, что за моей спиной конечно же совсем не мои руки, в то время как наши едва уловимые движения (вот почему я просила тебя быть сдержанней), их особенный ненавязчивый ритм (а это можешь вычеркнуть) свидетельствуют совсем о другом, нежели ее, то есть мое желание привлечь к себе внимание. Логика таких совлечений непредсказуема, порой не лишена изящества и потому дарит наслаждением. Каково бы ни было сопряжение — оно в настоящий момент всегда безусловно истинно в той же мере, как и ложно. Снизу доносится запах жасмина. Многие погибли, но многим удалось скрыться в горах или само-описаниях.