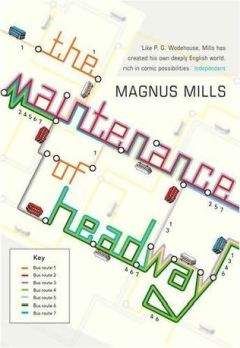Нам? В очередной раз я воздержался от комментариев, в глубине души, пожалуй, успокоенный тем, что в этой таинственной экспедиции он будет меня сопровождать. «Куда мы все-таки едем?» «Хорошая ли цена двадцать тысяч франков?» «Ему больше нечего делать, кроме как сопровождать меня?» В конце концов я счел все эти вопросы бесполезными, так что и их тоже не задал.
Через несколько минут неизвестно откуда появился молодой человек, чтобы забрать мопед. Вероятно, это ему Хамиду звонил по телефону перед отъездом из отеля. Как в Макдоналдсе на авеню Маркс-Дормуа, где Малик и его приятель в молчании ели свои куриные крылышки, я завидовал полному отсутствию искусственности в отношениях, этой естественной свободе, этой обезоруживающей способности оказать услугу, ничего не прося взамен. Или, наоборот, принять помощь, не путаясь в благодарностях.
Парень укатил на мопеде, старательно объезжая выбоины на пустыре, а мы с Хамиду заняли свои места в микроавтобусе «тойота». Надо сказать, я нигде не обнаружил названия пункта назначения, однако в салоне уже терпеливо ждали отправления с полдюжины пассажиров.
В невнятном шуме голосов, в запахе холодного бензина и пачулей, в машине с открытыми до предела окнами, чтобы впустить снаружи горячий и неподвижный воздух, я все же решился задать Хамиду несколько вопросов.
Оказалось, что он служит в буркинийском Министерстве сельского хозяйства, какое-то время стажировался в Бобо-Диулассо[47], раз в год ездит в Нигер навестить семью своей матери, несколько лет назад короткое время попытал счастья в торговле лесом на Кот-д’Ивуар. Был женат, развелся и теперь один воспитывает девятилетнюю дочь. Он выложил мне все это ровным голосом, с улыбкой, без малейшего следа горечи или воодушевления.
Как получилось, что, будучи служащим, он добился от своего начальства разрешения вот так, посреди рабочей недели, уехать куда-то в микроавтобусе? Честно ли он зарабатывает себе на жизнь? Делал ли он хоть раз попытку эмигрировать в Европу? Есть ли у него сбережения хотя бы на то, чтобы купить билет на самолет? Есть ли у него дома компьютер? Посылает ли его племянник Малик с оказией какие-нибудь деньги, чтобы помочь ему? Почему присмотр за дочерью поручен ему, а не ее матери? Кстати, кто сейчас ею занимается? Не испытывает ли он угрызений совести, сопровождая незнакомца, вместо того чтобы остаться с ребенком? Всех этих вопросов я, дабы избежать возможной неловкости, разумеется, не задал.
Очень скоро микроавтобус выехал из города и оказался в сельской местности, на дороге с односторонним движением. Автомобилей становилось все меньше и меньше. За окном — красная земля и до самого горизонта колючий кустарник, плоская монотонность, изредка перемежающаяся несколькими легко узнаваемыми растениями: цезальпиниями, гибискусами, баобабами и еще какими-то очень крупными, названия которых я не знал.
Передо мной сидела молодая мать с завернутым в кусок набивной хлопчатобумажной ткани новорожденным. И снова никаких церемоний. Ни излишней предусмотрительности, ни ласк, ни влюбленных взглядов, ни тисканья или сюсюканья со стороны других пассажиров. Только время от времени уверенное и точное движение плечом, чтобы подправить головку младенца; быстрый взгляд; грудь, без ложной стыдливости вынутая для кормления. Интересно, в этих краях смерть ребенка тоже безвозвратно разбивает сердце матери?
Когда Клеман родился, я подумал: «Нет, это далеко не самый прекрасный день в моей жизни». Скажу больше, в первые часы после его появления на свет я был гораздо сильнее озабочен растущим невниманием Элен ко мне, чем малышом. И именно ради того, чтобы не потерять ее любви, я решил проявлять максимальную заботу о Клемане. Я сразу взял на себя обязанность купать его, каждый день смачивать спиртовым раствором и перехватывать пластиковой прищепкой отмирающую пуповину, пока засохшая кожица сама не отпала. Я укачивал его, регулярно менял пеленки и одежду, каждую ночь без возражений просыпался одновременно с Элен, если ребенок начинал плакать.
Так, стараясь сохранить внимание Элен, я день ото дня становился все более ответственным и заинтересованным отцом. Никогда никому я не признавался, что, доведенный до предела завываниями Клемана, ночью иногда резко встряхивал его или даже щипал, чтобы заставить замолчать. И что, заметив, что мои пытки лишь усиливают его вопли, я в наказание удваивал жестокость. Может, мне всегда казалось, что Клеман на меня сердится именно потому, что, ничего о них не зная, он сохранил в своей плоти воспоминание об этих ночах? Каждый раз, когда я об этом вспоминал, меня охватывало обжигающее чувство вины и я думал, что никогда ничто не сможет оправдать меня в его глазах.
Молодая мать задремала. Ребенок, не выпуская изо рта соска, тоже уснул. Я отвернулся к окну. Мне казалось, что какая-то часть моих невзгод растворяется в этом новом беспристрастном пейзаже: не сочувствующем и не равнодушном. Так заземление предотвращает роковое короткое замыкание в неисправном электрическом приборе.
После четырех часов пути с одной остановкой, чтобы выпить кофе и сходить в туалет на заправке в городке, названия которого я не запомнил, Хамиду знаком дал мне понять, что мы приехали. Шофер, точно угадав, притормозил у обочины, чтобы высадить нас. Поблизости несколько крепких домов и широкая земляная дорога, отходящая перпендикулярно к шоссе. Хамиду достал из кармана мобильный телефон и, пройдя метров пятьдесят в вечернем, но еще горячем, точно в духовке, воздухе, взобрался на капот бесхозного «Рено-16». Там он снова кратко переговорил с кем-то по телефону, слез с автомобильного скелета и вернулся ко мне:
— Через пятнадцать минут за нами приедут. Подождем там. — Он указал на стоящую несколько в стороне легкую постройку.
Мы уселись на высокие деревянные табуреты, и две молодые женщины подали нам очень сладкий кофе с молоком. Хамиду, очевидно хорошо знакомый со здешними местами, вступил в оживленный разговор с одной из девушек. Я молча пил кофе и разглядывал мелкие капельки пота, образовавшиеся на крыльях носа второй, старательно скребущей пальцем внутри металлических стаканчиков, которые она полоскала в тазу. Невозможно было не смотреть на ее маленькие твердые груди, без всякого вызова торчком стоящие под хлопковым сарафаном. Кожа на плечах девушки казалась нежной, точно ее только что покрыли кремом с золотистыми песчинками.
Я подумал о Гислен, и на какой-то миг волна желания заставила меня забыть о том, как я несчастен. И о том, что это небо, как бы далеко оно ни было от неба Парижа, это небо, такое чистое и огромное, тоже навсегда обрушилось на мою голову.
Минут через десять появился еще один молодой человек. В грохочущем облаке пыли он одной рукой управлял мопедом, а другой тащил велосипед.
— Вот и он, — сказал Хамиду, спускаясь со своего табурета.
Я оплатил кофе, попрощался с девушками и последовал за Хамиду.
Парень не говорил по-французски и знаком пригласил меня сесть на заднее сиденье мопеда. Хамиду взялся за велосипед.
— Зачем? — на сей раз я не колеблясь запротестовал. — Я тоже прекрасно могу поехать на велосипеде.
Хамиду остановил меня движением руки и со смехом признался, что не умеет водить эту модель мопеда и не желает выставлять себя посмешищем, усевшись позади мальчишки, который ему в сыновья годится. Мы тронулись в путь.
Солнце уже село. Проехав четыре-пять километров, на протяжении которых мы не встретили никого, кроме нескольких крестьян с мотыгами на плечах, мопед свернул с дороги и еще метров через пятьсот оказался в селении, состоящем из хижин с соломенными крышами.
Я обернулся: мы уже давно обогнали Хамиду. Парень оставил мопед за калиткой, возле окружающей участок с четырьмя хижинами и общим двором плетеной изгороди.
Две женщины поочередно толкли что-то в одной ступе, третья, с ребенком на спине, толкла одна. Разинув рты, на меня смотрели голые маленькие, но уже самостоятельные дети. По двору с кудахтаньем бродили длинноногие куры.
Парень сделал мне знак подождать и направился к одной из хижин; на пороге, прежде чем войти, он разулся. Спустя несколько секунд он появился в сопровождении немолодого мужчины, одетого в похожую на тунику длинную широкую рубаху. Тот сразу подал мне руку.
— Биала. — Открыв рот, он продемонстрировал единственный зуб.
— Здравствуйте, — тупо ответил я, ухватившись за протянутую руку.
Тут старик пустился в монолог, из которого я не уловил ни единого слова. Поэтому с застывшей улыбкой лишь кивал.
Тем временем, чтобы посмотреть на меня, чужака в их деревне, да еще такого странно белокожего, во дворе собралось с десяток местных жителей, взрослых и детей.
Старик подвел меня к хижине, перед которой женщины только что раскатали большую нейлоновую циновку ярких цветов, и под любопытными взглядами односельчан, старательно не наступавших ногами на циновку, пригласил сесть рядом с ним.