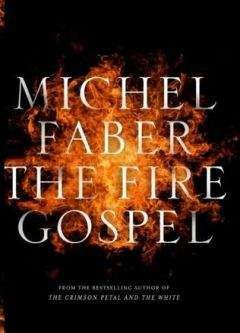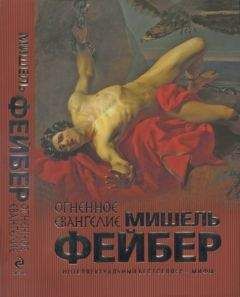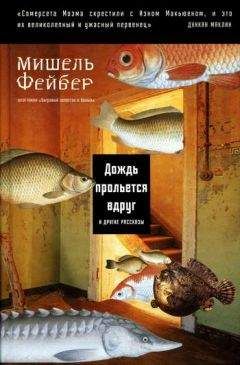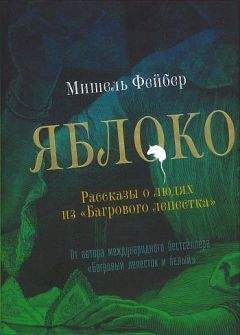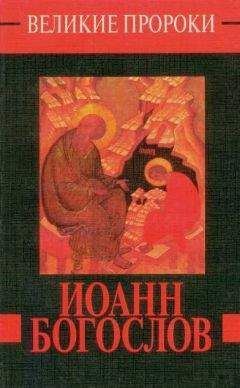— Шел бы ты лучше в больницу, чувак, — сказал Колтрейн. Теперь он произносил каждый слог с преувеличенной четкостью, словно сомневаясь в способности Тео усвоить добрый совет. — Обещаешь?
— Обещаю, — ответил Тео, пошатнувшись, но и поняв одновременно, что ноги снова держат его.
— Пусть они там залатают твое тело, а после наполни его Иисусом, — сказал Колтрейн. — У меня это получилось.
— Спасибо, — ответил Тео. Он уже снова поплелся по тротуару и вдруг почувствовал, что в его ладонь втиснулись какие-то бумажки. Оставалось только надеяться, что это были не деньги из столь непросто доставшегося Колтрейну пособия.
— Прочти это, брат, — прозвучал за его спиной звонкий голос. — Это самый важный документ, какой ты когда-нибудь читал. Он изменит всю твою жизнь. Гарантирую, брат.
— Спасибо, большое вам спасибо.
Тео ковылял по улице. Теперь ему следует прямиком топать в больницу, иначе он до нее вообще не доберется. Если его кто окликнет, он не станет обращать на это внимание. Одна нога вперед, потом другая, марш, марш, марш.
Какое-то шестое чувство заставило его резко затормозить. Он едва не врезался в металлический столб, вделанный в край тротуара. Столб походил на распятие с иконой автобуса наверху и поперечиной, на которой были выведены названия улиц и номер: 12.
Тео, качнувшись, вступил под навес остановки, сел. Расстегнул до середины молнию на кожаной куртке, сунул за пазуху брошюрку Колтрейна и снова застегнулся. У него осталось впечатление, что внутри все как-то сырее, мокрее даже, чем можно было ожидать от раны, и вправду такой поверхностной, как уверял Нури.
Присел — это он правильно сделал. Отличная идея, ноги ее одобрили. Слишком уж долго он шел. Ну и хватит, больше идти некуда. Белый с ружьем его уже не нагонит, проститутка тоже не схватит за руку, требуя отсоса. Можно и отдохнуть.
— Извините, — раздался прямо над его ухом женский голос.
Тео повернулся. Рядом сидела на скамейке женщина — лет сорока, с добрыми глазами, большим носом и длинными темными волосами. Только она одна и ждала вместе с ним автобуса.
— Надеюсь, я не покажусь вам нахалкой, — сказала она, — но, по-моему, я вас где-то видела.
— Не думаю, — ответил Тео. — Я не из Нью-Йорка.
— Может, по телевизору?
— Возможно, — согласился он. — Я… я писатель.
Заминка Тео объяснялась тем, что он рылся в своем мозгу, пытаясь приискать для себя какое-нибудь другое определение. Но он слишком устал, слишком ослаб, чтобы играть в глупые игры.
— Правда? — в голосе женщины прозвучала неподдельная почтительность, требовавшая лишь минимального поощрения, легкого толчка, чтобы обратиться в открытое преклонение. — А можно спросить, какие книги вы написали?
— Всего одну, — вздохнул Тео. — Она называется «Пятое Евангелие».
Глаза женщины сузились, между бровей обозначилась складка — она пыталась понять, знакомо ли ей это название.
— Не думаю… простите; не думаю, что она мне попадалась.
Облегчение Тео испытал настолько сильное, что даже улыбнулся. Похоже, Бог все-таки есть.
— Не страшно, — сказал он.
— Мы с мужем поженились не так уж и давно, — пояснила женщина. — Времени для чтение у нас теперь остается меньше, чем было когда-то.
— Не страшно.
— А ваша книга пользуется успехом? Я хочу сказать, смогла она добиться… того, на что вы надеялись?
Он снова улыбнулся. Какая она умная, это женщина. Искусная собеседница. Не спрашивая о цифрах, даже не упоминая об объеме продаж, она старается не ранить его достоинство. То, как она сформулировала вопрос, позволяет считать успехом и продажу нескольких жалких сот экземпляров — если, конечно, надежды, которые он возлагал на книгу, были достаточно скромными. Подумать только, случайная встреча на остановке автобуса, а сколько такта, сколько доброты.
— Ну, с учетом всяких обстоятельств, продается она очень хорошо, — сказал он. — Сам не знаю, почему.
Женщина кивнула, уже подыскивая наиболее безопасный способ поддержания разговора.
— А кто ваш издатель?
— «Элизиум».
— «Элизиум»! — и снова ее уважение оказалось несомненно искренним. — Обязательно Джо расскажу, то-то он удивится! «Элизиум» издал совершенно чудесную книжку, мы так ей дорожим! Она перевернула всю нашу жизнь!
Тео улыбался и не мог остановиться. Если улыбка станет еще шире, у него, глядишь, голова отвалится.
— Хорошо, когда такое случается, — сказал он.
— Ой, это еще не все! — восторженно продолжала женщина. — Мы заказали ее в «Амазоне», подержанную. А когда развернули, открыли, смотрим — а там автограф! Представляете? Чернилами, от руки: «Джонас Лиффринг»!
— Поразительно, — сказал Тео. Как жаль, что транспортное управление Нью-Йорка не раскладывает по остановкам подушки. Он так невообразимо устал.
— Мы ее, наверное, раз сто перечитали, — сказала женщина.
— Как она называется?
— «Умножь свою песенку», — ответила женщина. — Она учит детей, совсем маленьких, математике. Нашим два с половиной и четыре. А они уже таблицу умножения знают! Просто чудо какое-то.
— Да уж, — отозвался Тео.
Двенадцатый автобус, наконец, подошел, женщина встала со скамейки. Тео тоже. Делая первый шаг к ярко светившейся двери, он все еще улыбался. А после упал. Упал, черт его побери.
Лишился чувств. Он, кажется, и постарался встать, однако не смог выпутаться из савана темноты, который обвил его и тянул куда-то вниз, в место, где время не имеет никакого значения, а века могут пролетать, как секунды. Целую вечность он пролежал там, точно в яме, смирившись с тем, что его ожидает еще одна вечность, а за ней и другая. Время от времени его навещали мертвецы, однако они не произносили ни слова, только смотрели. Каждому из них Тео говорил: «Простите». Он сказал это Марти Салати. Сказал человеку, облившемуся бензином и сгоревшему в Санта-Фе. Сказал мистеру Мухиббу из Мосулского музея. Безымянной девочке из Канзаса. Они, — похоже, удовлетворенные — уплывали куда-то, оставляя его лежать в темноте.
А затем, вдруг, — видеть он ничего еще не мог, — к нему вернулись чувства. Незримые руки несли его. Бестелесные голоса озабоченно бормотали. Он был спасен. Теплая ладонь погладила его по лицу, легонько пришлепнула.
— Оставайтесь с нами, оставайтесь с нами, — сказал ему на ухо женский голос.
Женщина держала его ладонь, Тео сжал пальцы.
— Вот и правильно, — сказала женщина. — Держитесь.
И когда вокруг них задрожали стены автомобиля, запела:
— Один умножишь на один — опять получится один…
Все это и много большее я видел и слышал, стоя у подножья креста Спасителя нашего. Я записал для вас лишь самую малость того, что понял тогда; понимание более дивное не дается перу моему. Ибо рука, сжимающая это перо, прикреплена к телу, которое болит и стенает.
В том-то и беда наша, братья и сестры: мы говорим о том, что несказанно. Мы норовим сохранить в грубой плоти нашей понимание, которого грубая плоть удержать не может, как не может обезумевший человек схватить луч луны и засунуть его в мошну свою. Мы пытаемся, выбиваясь из сил, поведать историю, которая поведет других людей к Иисусу, но Иисус — не история. Он есть конец всех историй.
Иоанн Богослов, он же «Иоанн с Патмоса», т. е. человек происхождения неведомого, но живший на острове Патмос в то время, когда он написал эти слова, то есть в года 95 и 96 по Р. Х., а возможно, и в года 68 и 69 по Р. Х., а возможно, и в иные; слова же эти содержатся в непоименованном сочинении, получившем впоследствии известность под названием «Апокалипсис», или «Откровение», и перепечатанном в тексте «Библии» (1611), переведенной, как полагают, Томасом Рэвисом, Джорджем Эбботом, Джорджем Идесом, Жилем Тосоном, сэром Генри Савилем, Джоном Перинном, Ральфом Рэйвенсом и Джоном Гармаром, но, по сути, основанном на «Библии» (1526) в переводе Уильяма Тиндейла (имя в изданиях не указывается).
«Он же сказал ему в ответ: написано: не хлебом одним будет жить человек, но всяким словом, исходящим из уст Божиих» — «Евангелие от Матфея» 4, 4.
Иоанн, 19, 30.
Лука, 23, 46.
Судьба одного независимого немецкого писателя (нем.).
Псалтырь, 72, 7.
В курсе дела, информированный (фр.).
Пятое Евангелие (фр.).
Вот и славно! (фр.).