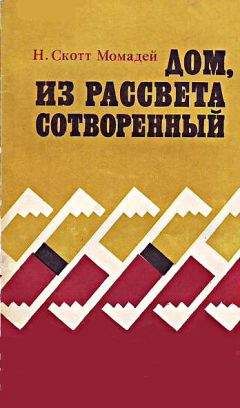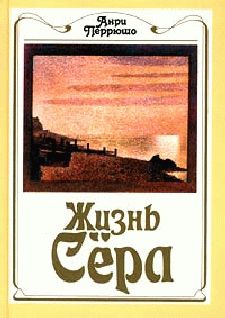Ну, они и убрали его подальше. Пришлось упрятать. Согласно Христовой системе. Тут уж им книги в руки. Они всех нас, христоотступников, неподдающихся, всех уберут рано или поздно. Линия у них верная. У них еще до нашего рождения готово нам местечко. Они — братия премудрая, благоразумная и осмотрительная. И не хочешь, а восхитишься ими, друг, — они-то знают, что к чему. Прямо насквозь нас видят. Знают, какого мы момента дожидаемся. Нам их не провести, ни-ни. Ты слушай, Беналли, — вот только взойдет круглая красная луна в одну из ночей — охотничья луна, — и мы подстережем обоз, полный белых женщин и детей, и устроим резню. Верь, не верь, а я иной раз пью за это».
Тосама всегда вот так — болтает шальные слова и насмешничает, но ему не понять. А я задумался, однако. О нем задумался — о том, как он испугался человека этого. Настолько испугался — не знал, что и делать. Вот испуга, страха такого кромешного и не понять Тосаме. Он образованный и не верит, что можно так испугаться. Но он не рос в резервации. Не знает, как оно там в глуши. Растешь ты где-нибудь в Кайенте или Лукачукае. Растешь во тьме ночной, и много там чудного происходит, невыразимого твоими словами. Ребенок умирает или сильный конь. Заболеваешь, или кукуруза усыхает на корню ни с того ни с сего. И припоминаешь ты, что на прошлой неделе было что-то не как надо, что-то неладное. Сова кричала, или странный вихрь кружил, или кто-то взглянул на тебя искоса и длинно. И до тебя доходит. Делается вдруг само собой понятно. К тому ж, может, тетка твоя или бабушка — колдунья. Ты знаешь, потому что ночами она ходит, бродит около скотных загонов; ты, может, не раз видел ее там — вот будто заговорила с собаками, с овцами, а глядь, уже нету ее. И делается вдруг понятно, и поневоле пугаешься. С ним, верно, так и было. Могло быть.
Мы с ним жили дружно; бывало нам и весело. Помню, как он появился у нас. Время было еще утреннее. Проработал я около часа примерно, и тут мастер меня вызывает. Я подумал, он хочет дать мне жару за опоздание сегодня, но ему, видно, не сказали. Вошел я к мастеру и вижу — он стоит и еще третий кто-то, из отдела релокации индейцев. Поздоровались за руку, и мастер говорит, что ставит его ко мне на конвейер. Покажи ему, мол, как и что. Я обрадовался, потому что на прошлой неделе Де-Бенедиктуса отпустили, и я остался без напарника, и словом не с кем перекинуться. Да и работы приходилось делать обе, невыполненные заказы накоплялись. Ну, показал я ему, как приход-уход свой отмечать, поводил, познакомил с ребятами. Он, чувствовалось, робеет, дичится — знаете, как новичку начинать работать, — а потом я привел его на конвейер и поучил скобки крепить. Руки у него хорошие, быстро усвоил. Понятно, без сноровки медленно сперва работал. Ошибался тоже, но я будто не замечал, и скоро у нас дело пошло.
Он не отрывал глаз от работы, на меня и не взглядывал. Я понимал, ему надо обвыкнуть, и не заговаривал с ним, а когда не сразу подходила очередная штука, мы стояли просто, глядели на конвейер, чего там медлят, — вроде мы крепко этим заняты, наглухо ушли в работу. И время шло к полудню, и тут я заметил, что у него ничего с собой не взято поесть. Стал думать, как мне поступить. Есть ли у него деньги, не знаю. Сразу я об этом не подумал, только теперь — и беспокойно мне. Не хочется, чтобы ему было неловко, и он, видно, сам о том думает, потому что, когда гудок дали, он сделал вид, будто не знает, зачем гудело, и продолжал крепить. Все, однако, обошлось. Мы отметились на перерыв, и я повел его к автомату с кока-колой. Ему, видно, в отделе релокации дали денег. Во всяком случае, мелочь у него была, и я обрадовался. Мы выпили кока-колы и пошли во двор. Там все сидели, подкреплялись. Они глядели дружески, но только я не стал садиться с ними — знал, что ему будет неловко. Они у нас шутники. Называют тебя «вождь краснокожих», подковыривают насчет «огненной воды». Мне-то пускай, но я не знал, как он отнесется. Вообще-то он привык, раз в армии был, да и сидел, — но тогда я еще этого не знал. Мы сразу отошли в сторонку, к доскам. У меня был сандвич, я сказал: «Давай пополам», но он ответил, что не голодный. Я половину съел и вроде больше не хочу, положил на доску между нами — может, передумает и возьмет все же, но он не взял. Пришлось выкинуть.
Жить ему было негде. В отделе ему приискивали, верно, жилье, но пока что не нашли, и он собирался ночевать в Индейском центре. Там в переулке у них склад, держат пожертвованную одежду и продукты. Там можно переночевать, если совсем некуда приткнуться. Помещение старое, дощатое, в стенах щели сквозят, но из обносков и тряпья можно сделать неплохую постель, тепло будет. Но уборной нет, и света нет, и на ночь обязательно кто-нибудь девку с собой приведет. Там и больные ночуют часто, и запах всегда кислый, поганый. Я ему сказал про это и предложил у меня жить, если хочет. Он промолчал, но после работы сходил поговорил с теми, из отдела, и вечером пришел ко мне со своим чемоданчиком.
Он долго еще был неразговорчив. То есть потом у нас с ним вдосталь было разговоров, но все только о здешнем. Зайдет к нам Милли, скажем, или другой кто из бытоустройства, а после мы перешучиваемся насчет них. Мы шиш в компании кой с кем, погуливали. Но о себе он еще долго молчал — да и потом не больно много рассказывал. Пожалуй, большинство из нас вот так же. Приехал ты из резервации — и неохота об этом говорить, а почему, не знаю. Верно, потому, что на новом месте это тебе не помога, и стараешься не вспоминать. Иногда всплывает все-таки в памяти, но тут же гонишь из мыслей. О стольком другом думать надо; воспоминания мешают, мутят голову. Наверно, если б все мы приехали из одного места, было бы по-другому — вспоминали бы тогда в разговорах и понимали друг друга.
Мы с ним, однако, были схожи. Он потом сказал мне, из какой он местности, и я тут же понял, что мы сдружимся. Мы с ним, по-моему, родством каким-то связаны. У нас, навахов, род один носит название той местности. Я был там. Лет восемь или десять назад ехал в Санта-Фе, в индейскую школу, и завернул туда с ребятами на большую ноябрьскую их пляску. Зима холодная стояла, все было в снегу. Там места славные: горы кругом и каньоны, и в камне краснины много. Там, как на моей родине, южнее Уайд-Руинз, где полно оврагов, кустарника и красного камня; у нас только горы подальше. И у него тоже не было никого, кроме дедушки. Он сказал, дед его держал овец. А я чуть не с двух лет овец пас.
Снежило нечасто, но уж если шел снег, то укрывал землю, насколько хватал глаз. Иногда всю ночь шел, и в дымовую трубу видно было, как он вихрит в черном небе. И снежинки влетали и таяли у очага на полу, и радостно было, что огонь горит. Вой ветра слышен, и тебе, малышу, сладко зарыться в одеяла и глядеть, как отсветы огня скользят по бревнам кровли и стен; а пол желтый, теплый — положишь руку на песок и чувствуешь, какой он теплый. И знаешь, что дедушка здесь и не даст тебя в обиду. Проснешься ночью — он сидит у огня, шевелит головешки, чтоб не гасло, и ты знаешь, что все хорошо. А утром встанешь, выйдешь — холодно, и всюду снег. И если солнце, он блестит, прямо глаза режет. Стены занесло, намело на кровлю, и хоган [Хоган — жилище навахов] весь как снежный бугор, и сверху дым выходит, и пахнет бараниной и кофе.
Сунешь руки в снег, натрешь им лицо — бодрый делаешься и живой, а руки красные от снега, мокрые. Оглянешься вокруг — снег завалил кусты, и снизу темнеют ветки, а в загоне овцы блеют, изгородь пухло заснежена, и видно из-под снега жерди, почерневшие от талой воды. Чуть поодаль — овраг, и в нем, где снег осыпался с боков, густо краснеет земля, и кусты оттуда торчат белые, будто клочья шерсти или ваты. Все переменилось за ночь. Светло и красиво кругом, и хочется кричать и бежать вприскочку. Вбегаешь в хоган, суешь к огню руки. Дедушка журит тебя и улыбается — знает, как тебе, малышу, сейчас весело. Отрезает кус баранины, кладет тебе. Ты слышишь, как кипит в котелке кофе, как он пахнет — даже снятый уже с огня и разлитый в кружки. Черный, горячий такой, и пар идет густо из кружек. Пусть остынет немного, а то кружки железные и жгут руку. А ждать трудно, потому что ты озяб и знаешь, как вкусно будет пить. Но мясо остыло сразу, его можно взять, и оно греет пальцы. Жир весь сочный, придымленный, бывает на нем жареная корочка, и черные хрустинки на зубах хрустят, а мясо упругое, жевать хорошо. А теперь и кружку можно взять, уже не жжется. Просто держать, и то приятно. Она тускло блестит — ты взял ее жирными пальцами, — а в ней чернеет и дымится кофе. Пьешь его — он еще вкусней баранины. Чувствуешь, влилось в тебя хорошее, горячее, крепкое питье, а на зубах твоих и языке вкусная гуща. Ты торопишься, потому что ты малый мальчуган, а на дворе снег, и у тебя дел по горло. Выгоняешь овец на яркий утренний простор, ищешь для них траву под снегом. Найти непросто, надо снег сгрести, и руки мокрые ломит от холода. Но все равно тебе весело, потому что ты с овцами на белом приволье, и поёшь, говоришь сам с собой, а снег свежий, глубокий, красивый. И вспоминаешь вдруг, что надо ехать за водой на торговый пост. Дедушка ездит раз в неделю, а то и два раза, в фургоне вашем, и если вода не к особому спеху, то он ждет, пока загонишь овец, и берет тебя тоже. Оставлять овец одних он не любит, но это ведь на малое время, и он знает, как тебе хочется с ним ехать. Воды в бочке уже мало, ты вечером заглядывал, там осталось на утро, и все. А ехать по склонам холмов, по низинам — сейчас только бы снег не растаял, не раскисла дорога. Хорошо будет ехать, не то что в дожди и ненастье. Хорошо будет, только с овцами скорей бы управиться. Ты спешишь, траву отыскиваешь. А потом, загнавши овец, видишь, что дедушка набил бочку снегом, и опять вода есть. Но все равно вы с ним едете на торговый пост — не хочет он тебя, малыша, огорчать. В лавке там полно народу, потому что большой снег на землю пал, и купить надо всякого припасу, и постоять им хочется, всем вместе, покурить, потолковать о зиме. Тебе, малышу, есть на что поглядеть там, и все такое новое, красивое: яркие новые ведра и кадки, седла и упряжь, шляпы, рубашки, ботинки и большой стеклянный ящик, полный конфет. Торговца зовут Фрейзер. Он протягивает тебе красный леденец и смеется, потому что ты берешь не сразу, робеешь, а хочется — прямо беда. А дедушке он дает табаку и бурой бумаги на закрутку. И, покуривши, дедушка долго с ним толкует, а о чем, ты не знаешь и только оглядываешь все это новое, красивое, кругом разложенное. А потом торговец на прилавок кладет мешок с мукой, и с сахаром, соленого сала кусок, консервы и целый кулек сладких леденцов. А дедушка снимает с руки один перстень и дает торговцу. На перстне камушек зеленый, вделанный небрежно в серебро. Перстенек нестарый, тонкий — уж не стоит он всего того, что Фрейзер за него дал. Одну банку он открыл — большую банку помидоров, дедушка посыпал сверху сахаром, и вдвоем вы съели их прямо тут же и по бутылке выпили сладкой красной содовой шипучки. Уже закатывалось солнце, когда ехали домой, и земля была холодная и белая. А вечером дедушка ковал полоски серебра и старые были рассказывал при свете очага. И, малый мальчуган, ты был в средоточье всего — среди священных гор, заснеженных гор и холмов, оврагов и низин, закатов и ночей — где твоя родина и твое место.