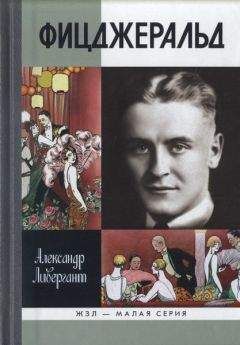Мадам Полетт дала Алабаме фотографию Жака и длинное письмо от него.
— Я вам очень сочувствую, — сказала мадам Полетт. — У нас в мыслях не было, что все так серьезно, — мы думали, это у вас несерьезно.
Алабама не смогла прочитать письмо. Оно было написано по-французски. Она разорвала его на мелкие кусочки и бросила в черную воду порта, где стояли рыболовецкие суда из Шанхая и Мадрида, Колумбии и Португалии. Хотя сердце Алабамы разрывалось от боли, но с фотографией она поступила так же. Ничего красивее этой фотографии у нее в жизни не было. Но какой смысл хранить ее? Жак Шевр-Фейль отправился в Китай. Лето этим не вернуть, ни одна французская фраза не восстановит прежнюю гармонию, да и надежд дешевая французская фотография не вернет. Чего бы она ни хотела от Жака, теперь он увез свои чувства с собой, чтобы растратить их на китаянок… От жизни надо брать все, чего хочешь, конечно, если сможешь, все без остатка.
Песок на берегу был таким белым, словно вернулся июнь, а море, как всегда, голубым, если смотреть на него из окна поезда, увозившего Найтов прочь от страны лимонов и солнца. Они направлялись в Париж. Они не особенно верили в путешествие или в перемену места как панацею от душевных ран; они просто радовались дороге. И Бонни радовалась. Дети обычно радуются всему новому, не осознавая, что и в старом есть все что нужно, если это старое изначально было полным. Лето, любовь, красота одинаковы и в Каннах и в Коннектикуте. Дэвид был старше Алабамы; он перестал по-настоящему радоваться после своего первого успеха.
Никто даже не знал, а чья, собственно, нынче вечеринка. И так продолжалось неделями. Когда чувствовали, что еще одну развеселую ночь уже не пережить, они ехали домой отсыпаться, а возвратившись, заставали других гостей, старавшихся поддерживать огонь веселья. Наверное, это началось в тысяча девятьсот двадцать седьмом году, когда корабли высадили во Франции первых неугомонных пассажиров. Алабама и Дэвид присоединились к веселящимся в мае после ужасной зимы в парижской квартире, в которой пахло церковными фолиантами, потому что ее было невозможно проветрить. Эта квартира, в которой они заперли себя, чтобы спастись от зимних дождей, была отличным рассадником микробов горечи, которых они привезли с собой с Ривьеры. Из окон были видны плотно подступившие серые крыши, за которыми были другие серые крыши, похожие издали на изгородь из фольги. Серое небо просвечивало между трубами, и это в какой-то мере напоминало вечную небесную готику, все это пространство, рассеченными шпилями и прочими остриями, которые висели над беспокойными людьми, как трубы огромного термостата инкубатора. Балконы, словно с офортов, на Елисейских полях и мокрые от дождя тротуары около Триумфальной арки — вот и все, что они видели из своего красного с золотом салона. У Дэвида была студия на Левом берегу, за Понт д'Альма, где дома в стиле рококо и длинные, усаженные деревьями аллеи заканчиваются бесцветными плоскими проемами.
Там Дэвид затерялся в осенней ретроспективе, забыв о времени, о жаре и холоде, праздниках, ради того, чтобы произвести на свет нежнейшие реминисценции, которые приманили огромные авангардные толпы в «Салон Независимых». Фрески были завершены: в них появилось что-то новое, более индивидуальное, в выставочных работах Дэвида. Теперь его имя можно было услышать в банковских коридорах и в баре «Ритц», и это доказывало, что о нем говорили в других местах тоже. Суровая выразительность его работ проявлялась даже в украшениях интерьера. В «Des Arts Décoratifs»[62] ему заказали столовую в стиле одного из его интерьеров с серым анемоном; «Ballet Russe»[63] принял его оформление — фантасмагорию света на пляже в Сен-Рафаэле, чтобы показать зарождение жизни в балете «Эволюция».
Растущая популярность Дэвида Найта вызвала желание полетать (говоря символически) на их горизонте Дикки Экстон, которая накорябала над стенами их благополучия послание из «Вавилона», правда, они не удосужились его прочитать, так как в это время были поглощены ароматами почти невидимой сирени на бульваре Сен-Жермен и тайнами Place de Concorde[64] в атмосфере недешевого мистицизма сумеречного часа.
Звонил и звонил телефон, гоня их сны в бледную Валгаллу, Эрменонвиль[65] или небесные сумеречные коридоры отелей с раздутыми счетами. Пока они не желали просыпаться в своей романтической постели, грезя об исполнении всех желаний на свете, звонок будоражил их совесть, как боевые кличи вдалеке, и Дэвид в конце концов взял трубку.
— Алло. Да, это Найты.
Голос Дикки скользнул по телефонному проводу, интонации были доверительными, а потом откровенно угодливыми.
— Я надеюсь, вы примете мое приглашение на обед.
Слова летели из ее рта, как акробаты из-под купола цирка. Остановить Дикки могли лишь люди очень независимые — и социально, и морально, и в личной жизни, так что размах ее активности был просто невероятным. В распоряжении Дикки был каталог всех человеческих эмоций, агентство, где проводились кастинги лакомых сведений и жареных фактов. Существование такой вот Дикки не вызывало удивления, это ведь была эпоха Муссолини и проповедей с горы любого случайного скалолаза. За триста долларов она выцарапывала столетние исторические залежи из когтей итальянских аристократов и отправляла их, как икру, дебютанткам из Канзаса; еще за несколько сотен она открывала для послевоенных американских богачей двери Блумсбери и Парнаса, ворота Шантильи и страницы справочника «Дебретт». Ее нематериальная коммерция служила слиянию европейских рубежей, получалось что-то вроде салата из сельдерея — из испанцев, кубинцев, южноамериканцев, даже иногда черных, которые плавали в социальном майонезе, как кусочки трюфеля. Найты поднялись до того высоко на иерархической лестнице «известных людей», что материализовались для Дикки.
— Не стоит слишком заноситься, — сказала Алабама, заметив отсутствие энтузиазма у Дэвида. — Все будут чистенькими, или были когда-то.
— Примем, — произнес Дэвид в трубку.
Алабама сделала попытку повернуться. Аристократическое послеполуденное солнце растекалось по кровати, на которой Алабама и Дэвид нежились среди смятых простыней.
— Это очень лестно, — проговорила Алабама, направляясь в ванную комнату, — когда тебя добиваются, но предусмотрительнее, мне кажется, добиваться самим.
Лежа в кровати, Дэвид прислушивался к бурному потоку воды и звону стаканов на подставке.
— Опять придется пить! — крикнул он. — Я выяснил, что могу обойтись без своих принципов, но пожертвовать слабостями не могу — например, жадностью до выпивки.
— Что ты сказал о болезни принца Уэльского?
— Не понимаю, почему ты не слушаешь, когда я с тобой разговариваю, — возмутился Дэвид.
— Ненавижу, когда начинают разговаривать, едва я берусь за зубную щетку, — парировала Алабама.
— Я сказал, что простыни жгут мне ноги.
— Тут нет углекислого калия в алкоголе, — скептически произнесла Алабама. — Наверно, у тебя невроз. Появился какой-нибудь новый симптом? — с тревогой вопросила она.
— Я так долго не спал, что у меня, не исключено, были галлюцинации, вот только пойди разбери, где они, а где реальность.
— Бедняжка Дэвид — что будем делать?
— Не знаю. Правда, Алабама… — Он задумчиво закурил сигарету. — Мои работы теряют свежесть. Мне нужны новые эмоциональные стимулы.
Алабама холодно посмотрела на него.
— Понятно. — Она понимала, что благодаря прованскому лету навсегда утратила право обижаться. — Ты мог бы последовать примеру Берри Уолла и писать для парижской «Геральд».
— И задохнуться от кьяроскуро, над какой-нибудь гравюрой.
— Если ты серьезно, Дэвид, то мне казалось, мы не лезем в дела друг друга.
— Иногда, — сам не зная зачем отозвался Дэвид, — на твоем лице такое выражение, будто ты потерялась в тумане на шотландском болоте.
— И, конечно же, в наших взаимных расчетах нет места для ревности, — стояла она на своем.
— Послушай, Алабама, — не дослушав жену, сказал Дэвид, — я ужасно себя чувствую. Как ты думаешь, мы добьемся успеха?
— Я хочу похвастаться новым платьем, — решительным тоном произнесла Алабама.
— А я надену старый костюм. Знаешь, а может, не стоит идти к ней. Надо подумать о наших долгах перед человечеством.
Для Алабамы долги означали всякие ловушки цивилизации, которая заманивала в свои сети и наносила вред счастью Алабамы и стреноживала время.
— Ты морализаторствуешь?
— Нет. Я хочу посмотреть, какие она устраивает приемы. На своем последнем суаре Дикки ничего не получила для благотворительности, а ведь сотни людей не были пропущены дальше ворот. Герцогиня Дакне стоила Дикки трехмесячного размещения в Америке отлично подобранных намеков.