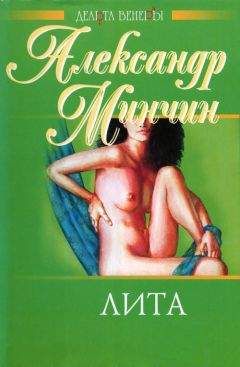Он свернул и уже двигался к дому, который был напротив. Я стал ждать, впившись глазами: на втором этаже зажегся свет. Куда она не привела меня тогда, там вспыхнул свет. Я не мог поверить. Неужели у меня мания? Это просто случайные совпадения. Я бросился к телефону, вбежав домой.
Я звонил в прокуратуру следственного отдела. И попросил Фалосова.
— Он здесь больше не работает, — последовал ответ.
— Как это?! А где он?!
— По какому делу звоните?
— Лаковой, — тихим голосом сказал я.
— О чем?
— Об изнасиловании.
— Отдано на дознание.
— То есть?.. Что это значит?
— На дополнительное расследование, новый следователь… Ждите, он вам позвонит.
Я сидел оглушенный, не понимая, что происходит, но чувствуя, всем нутром осознавая, что произошло что-то страшное. Неисправимое…
В десять вечера раздался звонок.
— Алеша, я не хочу, чтобы ты волновался, — звонил друг сестры Веры — Саша.
— Что случилось? — Я почувствовал, как тошнота подкатилась к горлу.
— Прежнего следователя отстранили от дела. Отец Злонимского известный директор картин на «Мосфильме». Он оказывал большое давление на прокурора района. Ходил по дому, собирал среди знакомых подписи на характеристику для сына. И хотя все знают, что творится в этой квартире, они подписали. Назначили нового следователя для дополнительного расследования, и первое, что он сделал, — выпустил под залог Злонимского.
— Когда?
— Неделю назад.
— Значит, это он за мной шел.
— Обритый налысо? Скорее всего, да. Поэтому я хочу, Алеша, чтобы ты был осторожным: они могут решить отомстить. Они знают, кто ты и какое участие принимаешь в деле. Она сама бы этим не занималась. Словом, кто стоит позади Литы.
Значит, целую неделю один был уже на свободе. (Пока мы развлекались в деревне.)
— А со вторым что?
— Он сидит. У него до этого были судимости. Его послали на народные стройки по какой-то уголовной статье, где он подделал документы, и вернулся в Москву.
«Хорошая компания!»
— Поэтому ты должен быть осторожным. Мало ли какие там связи с уголовным миром.
Я молчал, раздумывая. Я хотел начать с первого, а не со второго…
— Поэтому я бы хотел, чтобы ты провожал Литу после занятий какое-то время. Они знают институт, в котором она учится.
Первый был главным…
Пострадавшие должны бояться надругавшихся. Жертвы должны остерегаться преступников. Хорошая система!
— Где Лита?
— Дома. Плачет, боится, что ты неправильно поймешь. Завтра у нее встреча с новым следователем. Она не хочет идти… Алеша…
— Да, — я прихожу в себя.
— Ты для нее бог, и каждое твое слово заповедь. Как ты скажешь, так она и сделает. Но я хочу, чтобы ты подумал, стоит ли так терзать себя и ее, мучиться, переживать, страдать. Вы молоды и красивы, перед вами вся жизнь впереди. Она оступилась, упала, все забудется, исправится, время — лучший лекарь. Может, оставить все, как есть. Ты ведь казнишь себя и ее!
— Я не буду жить и дышать, пока не увижу их за решеткой. Гниющими в лагерях. А когда они выйдут, если их там не покалечат…
— Алеша, ты же ведь мучаешь себя больше всех остальных!
— Простите, я не могу сейчас с вами разговаривать.
Я вешаю трубку и слышу шаги папы. Какой-то ад. Замкнутый ад. Абсолютный, кромешный, безвыходный ад.
Я смотрю на нее с отвращением, встретившись: она, она во всем виновата. И то, что выпустили Злонимского, ее вина. Не было бы ее, я б никогда не знал этих имен, следователей, заражений, диспансеров — мерзости, грязи. Из невинного, чистого все стало порочным и черным.
Но, перешагивая через ненависть, я договариваюсь, что буду встречать ее на Плющихе и провожать до метро.
— Я плáчу каждый вечер и казню себя, что я села в эту проклятую машину.
Я вздрагиваю.
— Не надо плакать каждый вечер. У тебя и так глаза не…
Мне хочется ее удавить, разорвать, растерзать. Оскомина и раздражение давят в зубах. Я сдерживаюсь.
— Алешенька, мой ангел, невинный, прости, ну прости меня. Я чувствую, ты хочешь меня бросить. Только не бросай. Я этого не переживу…
— Не надо начинать мелодрамы!..
— Хорошо, любимый. Ну хочешь, ударь меня!..
Она хватает мою руку и бьет себя по лицу. Я отдергиваю руку.
Она начинает дико рыдать, с воем.
— Не плачь, — резко говорю я.
Она спотыкается и хватается за меня, едва не падая.
— Я им все равно не дам дышать на этой земле, пока не расплатятся.
Хотя ее волнует совершенно другое. Глаза блестят от слез. Губы, приоткрывшись, будто молятся.
— Алешенька, пойдем в кино. Сейчас. Я так люблю сидеть в темноте рядом с тобой. Когда ты расслабляешься, становишься спокойным…
Я улыбаюсь от неожиданности перехода и сумбурности ее желаний. И она, почувствовав, виснет на руке.
— А можно?.. — не сдается она.
— Отстань, — говорю я и провожаю ее до метро.
На следующий день как ни в чем ни бывало она покупает большие сочные апельсины и чистит прямо на улице, пока мы идем. Сок течет сквозь изящные пальцы.
— Алешенька, поешь, пожалуйста. Ты так похудел… А у меня нет кухни для тебя готовить.
Она отламывает дольку и протягивает к моим губам. Мои губы говорят:
— Лита, я хочу, чтобы мы расстались.
Ее руки дрожат, она застывает, лицо сморщивается, слезы бесшумным потоком скользят по щекам. Она хватает мои руки и рыдает:
— Ну нет же, ну нет!.. Ты не можешь этого сделать. — Половинки апельсина падают в осеннюю слякоть. Теперь она рыдает взахлеб, ее колотит истерика.
При мысли о папе, его незаданных вопросах о ней (вижусь ли я с Литой?) и маминых заданных вопросах о ней я еду к Максиму. Он дежурит.
— Исчезнувший брат Алеша вспомнил брата Максима.
— По поводу исчезновений — папа обижается, что ты не звонишь.
— Папа всегда обижается, на всё и на всех.
— Но это не значит, что ты не должен звонить.
— Позвоню, как вернусь. Мне нужно на вызов, хочешь со мной поехать?
Я киваю. Хоть к черту на кулички — только подальше от мира своих мыслей.
— Надень белый халат, будешь изображать санитара.
Мы едем в машине «скорой помощи». Я сижу на носилках. Он напротив.
— Чего такой грустный?
— Разве заметно?
— Краше в гроб кладут. Любимая ушла?
— Любимые не уходят, их уводят.
— …то неизвестно, кому повезло!
Он смеется, я невольно улыбаюсь.
— Где ты был?
— В деревне.
— Один? В деревне? С каких пор?
— С ней…
— И как она? У нее редкое имя…
— Не могу с ней быть. И не могу с ней не быть.
— Гамлетовская ситуация получается.
— Хуже, достоевщина и патология, замкнутый круг.
— Как следствие, когда суд?
— Суд? — Я усмехнулся. — Одного из двоих выпустили на свободу.
— Да ты что?!
— Поменяли следователя. Папаша преступника давил на прокурора. Странное что-то происходит.
— А папа ничем помочь не может? У него связи…
— Он ее имени слышать не хочет, что ты!..
— Но второй сидит?
— Второй — он первый и главный, сидит, но по другому делу. По которому был осужден раньше.
— Ничего, в тюрьме им зеки устроят. Уголовники ненавидят насильников.
— Если они еще попадут в тюрьму.
— Взял бы штык и вогнал бы в анус, чтобы он через горло вышел. Отродье. Что ты будешь делать?
— Я думаю — топором…
— Не вздумай, Алеша, посадят. Отец этого не переживет. Только хуже сделаешь.
— Но должно же быть возмездие?!.
— Должно. Но не топором, минутная боль, как от шока. Надо действовать умней. Они должны мучиться долго и страшно. Как страдаешь ты и она.
Я вздохнул глубоко.
— Не уверен, что она страдает.
— Не может быть…
— Ее ничего не волнует, только со мной быть. А остальное…
— Она влюблена. Это понятно.
— Моим врагам — такую любовь. Это не любовь…
Карета «скорой помощи» уже разворачивается у нужного подъезда, и кто-то кричит: «Доктор, доктор приехал».
— Бери чемоданчик, — говорит доктор, и мы поднимаемся на пятый этаж.
Я смотрю на плоть толстой женщины, в которую доктор-брат вонзает укол. Студни-бедра, разросшийся лобок, жирный пах с бесформенным животом. Неужели это то, ради чего мы живем и добиваемся? Неужели это то, во что все превращается? Ее тоже кто-то когда-то хотел…
Я передергиваю плечами. И отвожу взгляд.
— Бабушкина талия не понравилась! — шутит в машине брат.
— Да уж, трудно представить ее объектом любви.
— Ничего, наверно, и сейчас кто-нибудь сзади прилаживается.
— Макс!
— Я забыл, что ты у меня впечатлительный.
— А помнишь, как я приезжал к тебе в Кёнигсберг, где ты работал в лазарете после института?
Он смеется.
У него была сорокавосьмилистовая тетрадь, на которой было написано: «Лечение всех заболеваний».