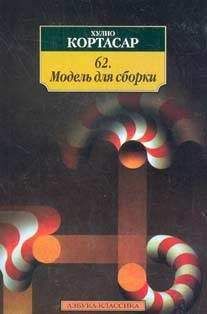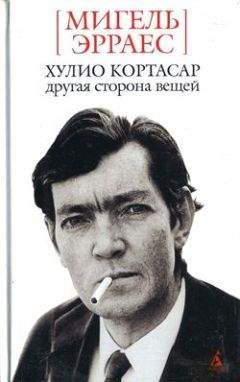– Что может быть удобней для обдумывания, чем диван в зале номер два. Я там почти всего Рескина перечитал.
– А что это даст, если мы будем там караулить?
– Минуточку, – вставил Поланко. – Меня этот тип ни о чем не просил.
– Я прошу и тебя, дорогой мой гаучо. Что это даст? Вы сможете сообщить мне о происшествиях, а они, конечно, будут, и очень важные, как всегда случается в отсутствие заинтересованного лица. Резервы Гарольда Гарольдсона исчерпаны, и можно ожидать событий непредсказуемых.
Они заказали три пива и томатный сок для Остина.
– Для тебя это действительно так важно? – спросил Калак.
– Нет, – честно ответил Марраст. – Теперь уже нет. Но бывает, что выпустишь орлов на волю, а потом надо все-таки поглядеть, куда они, черти, залетят. Вроде как чувство ответственности у демиурга, если можно так выразиться.
– Это такой эксперимент или что?
– Эксперимент, эксперимент, – проворчал Марраст. – Вам сразу же подавай ярлык. Видите ли, я, если уж держаться этой метафоры, не в первый раз выпускаю орла – отчасти, чтобы нарушить привычный ход вещей, но также потому, что мне кажется таинственно необходимой идея о том, что надо постоянно что-либо будоражить, все равно что.
– Превосходно, – сказал Калак. – Как только ты берешься объяснять, у тебя такой набор слов, что Гурджиеву впору. Таинственно необходимо, скажите на милость. Да ты вроде вот этого, с его техническими экспериментами в отеле, только и знает, что гайки крутить.
– Все дело в том, что вы всего лишь жалкий финтихлюпик, – сказал Поланко. – Ты не обращай на него внимания, че, я-то очень хорошо тебя понимаю, ты, парень, из моего сорта.
– Спасибо, куманек, – сказал Марраст, слегка удивленный таким безоговорочным согласием с тем, что ему самому было не очень-то понятно.
– Ты, брат, – продолжал Поланко, с великолепным жестом, восхитившим Остина, – строишь моторы невесомые, мутишь воды невидимые. Ты изобретатель облаков небывалых, ты вводишь бурлящую пену прямо в косный цемент, ты наполняешь вселенную объектами прозрачными и метафизическими.
– По чести тебе сказать…
– И тогда у тебя рождается зеленая роза, – восторженно продолжал Поланко, – или, наоборот, никакая роза не рождается, а все лопается вдрызг, но зато возникает аромат, и никто не может понять, откуда этот аромат, когда цветка-то нет. Вот так и я, непонятный, но неустрашимый изобретатель.
– Достаточно нам было одного бурдака, – пробурчал Калак. – Теперь, вишь, эти двое стакнутся и меня заклюют.
Последовала обычная дискуссия в духе того, что, во всяком случае, бурдаки чего-то стоят и, главное, хранят верность друзьям. / Один одинокий финтихлюпик стоит больше, чем бурдак, одураченный безголовым скульптором / Если вы из-за меня вздумаете драться, я могу попросить Остина сходить в музей / Никто тебе не говорил, что мы не пойдем, но я по крайней мере сделаю это из дружбы, а не для того, чтобы забивать себе мозги твоими орлами / Мне это безразлично, лишь бы ты рассказал, что произойдет сегодня днем / Наверно, ничего не произойдет / Когда ничего не происходит, тогда именно это и происходит / Ну вот, теперь еще этот болван строит из себя метафизика / Че, красиво говорить – легче легкого / Если бы среди этих невротиков оказался хоть один хорошенький симпомпончик / Если ты не способен самостоятельно найти женщину во всем Лондоне, не понимаю, почему в музее ты привередничаешь? / Ты видишь, он просит нас туда пойти, да нас же еще оскорбляет / Это, может, тебя он оскорбляет, а мне никаких невротичек не надо, у меня вкусы особые / Разрешите улыбнуться / И так далее и тому подобное.
Если бы со мною был мой сосед или Поланко, было бы нетрудно отыскать номер юной англичанки, но на Телль, всегда готовую выслеживать фрау Марту на улицах или в парках, нападала в отеле поразительная робость – устроив себе штаб-квартиру в номере Владислава Болеславского, она прилежно следила через глазок двустворчатой двери, не решаясь под каким-либо предлогом подняться на верхние этажи и изучить их топографию. Излишне говорить, что в ее распоряжении был весь день, что она могла это делать в часы досуга, а такими в Вене были почти все ее часы, – возвращаясь с работы, я заставал ее на посту, как верного часового, но она не вышла ни разу за пределы нашего этажа, а мне было неудобно это делать в такое позднее время или по утрам, риск был слишком велик. Мы было понадеялись, что нам поможет доска с ключами в тесной сырой комнатке администратора, но обнаружили, что там полно ключей, не бывших в употреблении с давних пор, а надписи на жетонах сделаны готическими буквами, в которых безвозвратно тонула всякая английская фамилия. Обсудили также возможность расспросить кого-нибудь из служащих, сунув кредитку, но они не внушали нам доверия своим видом – не то лакеи, не то бездушные зомби. Уже три ночи следили мы за коридором, и, даже когда я сдавался, сморенный усталостью и сливовицей, Телль до часу ночи не отходила от двустворчатой двери, своей террасы Эльсинора. Ну а после часу ночи, по нашим предположениям, фрау Марта должна была спать, как все люди, и не совершать подозрительных прогулок; когда Телль возвращалась в кровать и, зевая, прижималась ко мне, потягиваясь и мурлыча, как разочарованная кошка, я же на миг вырывался из сна, и мы обнимались, как после долгой разлуки, а иногда дело кончалось полусонными ласками при зеленоватом свете ночника, в котором Телль казалась гибкой, изящной рыбой в аквариуме. Так шло время, и мы почти ничего не разузнали, кроме того, что фрау Марта живет на нашем этаже, в глубине коридора, и что номер юной англичанки находится на одном из верхних этажей; каждый вечер, приступая к наблюдению, мы с научной точностью определяли шаги англичанки между половиной девятого и девятью часами, время для сна немыслимое, но туристы к этому часу обычно очень устают, и мы слышали, как бедняжка слегка волочит ноги, возвращаясь со своим путеводителем Нагеля. Убедившись, что она в безопасности (на четвертом или на пятом этаже?), мы отправлялись ужинать, свободные от всяких обязанностей до одиннадцати; в эти часы жизнь в отеле шла полным ходом, и фрау Марта вряд ли могла выйти из своей комнаты с иной целью, кроме как посетить исторический клозет в коридоре.
На четвертый вечер, после ужина в сербском ресторане на Шонлатернгассе, где к любому куску мяса вела палочка с нанизанными на нее кружками лука и перцев, мне в темноте коридора почудилось какое-то движение. Не оглядываясь, я отворил нашу двустворчатую дверь и рассказал Телль об этом, лишь когда мы оказались в своей комнате. Конечно, фрау Марта, никто другой не мог бы так скользить во мраке. В двенадцать без пяти минут (мне была дарована привилегия смотреть в глазок, пока Телль, поддавшись непростительной слабости, вновь погружалась в роман Джона Ле Карре, который, по-моему, достоин своей фамилии), при свете мутного исторического плафона на лестничной площадке, я увидел похожую на пепельно-серого кота фрау Марту – она шла, неся в правой руке что-то, что мне не удалось разглядеть, наверно универсальный ключ, память о давнем знакомстве с администратором, который ее поселил в отеле пожизненно, быть может, тут были австро-венгерские любовные шашни, вообразить себе которые, глядя на то, что осталось от фрау Марты, не сумел бы никто. Когда она исчезла на верху лестницы, я выждал секунд двадцать, подал Телль условный знак, чтобы она держала дверь приоткрытой на случай внезапного моего отступления, и, сделав последний глоток сливовицы, выглянул в коридор. Было маловероятно, чтобы по отелю разгуливал кто-то из постояльцев, в каморке у администратора храпел сторож, и я убедился, что, когда звонили постояльцы-полуночники, колокольчик у входной двери был хорошо слышен с лестницы, так что я успел бы ретироваться в наш исторический номер. Мне не понадобился Джон Ле Карре, чтобы догадаться обуть мокасины на каучуке, и, держась за перила, я начал подниматься туда, куда свет с нашей площадки почти не доходил.
Телль ждала, прильнув к двустворчатой двери номера Владислава Болеславского, и все напряженней прислушивалась к глубокой тишине отеля, к дробному тиканью маленького будильника на ночном столике. Тогда это уже перестало быть шуткой, способом провести время; Хуан отправился в поход, он оказался вне пределов комнаты, где мы столько смеялись над фрау Мартой, а я осталась одна с точным поручением обеспечить в случае опасности его отступление. Я устала смотреть в глазок, для этого надо было наклоняться, и я предпочла приоткрыть обе створки дверей, готовая в любой момент их закрыть, если в коридоре покажется кто-то из постояльцев; я смотрела попеременно то на лестницу, то в нашу комнату, все острее чувствуя, что где-то там, в дверной притолоке, намечается трещина и нечто наше, нами вымышленное, где-то там кончается, отступая перед чем-то, что не могло быть реальностью, однако происходило, и, стало быть, мы все-таки были правы, и фрау Марта выходит по ночам и поднимается на верхний этаж, а на верхнем этаже живет молодая англичанка, и два плюс два будет четыре и т. д. Страха я не испытывала, но по мне словно забегали мурашки и на нёбе проступило что-то липкое; я была одна в комнате Владислава Болеславского, одна с куклой месье Окса, сидевшей на комоде. Нет, ничего не произойдет, Хуан вернется разочарованный, мы ляжем, и это будет эпилогом глупой истории ужасов, нам даже не очень захочется подшучивать над собою; Хуан станет говорить, что надо вернуться в «Козерог», раз ему осталось пять дней работать в Вене. С моего наблюдательного поста – а мы в эти дни давали нашим действиям громкие названия – я видела куклу, освещенную зеленой лампочкой, и конверт с наполовину засунутым письмом к Николь, я не знала, что ей написать, и спрашивала себя, не поехать ли мне в Лондон, чтобы лучше разобраться в истории, о которой мне недавно писал Марраст. Тут фрау Марта кашлянула, кашель был сдержанный, почти нарочитый, вроде легкового перханья, как у человека, когда он, углубившись в себя, подошел к концу своих размышлений и решает что-то сделать – переменить позу или объявить, что нынче вечером пойдет в кино или что ляжет рано.