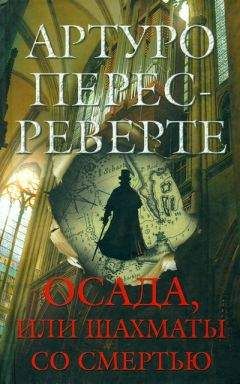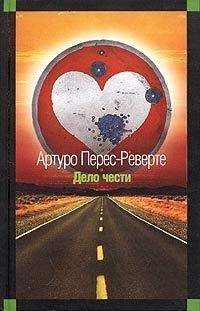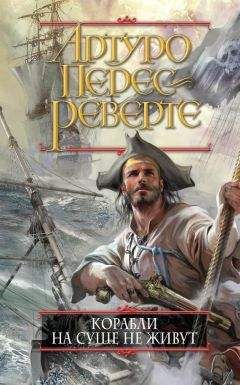Тисон знает, что это значит. Ну или может себе это представить. Несколько дней назад шесть тысяч испанских солдат и еще сколько-то англичан под командованием генералов Лапеньи и Грэма на двух кораблях вышли из кадисской гавани курсом на восток. Высадка в Тарифе означает начало боевых действий в непосредственной близости от Кадиса, может быть, даже в Медина-Сидонии, где сходятся все коммуникации. И стало быть, готовится крупное сражение, чьи итоги — цепь сокрушительных поражений, приводящих к окончательной победе, как шутят местные острословы, — кадисское общество будет неделями обсуждать в кофейнях, в газетах и на званых вечерах, покуда генералы, которые вкупе со своими сторонниками смертельно завидуют друг другу и на дух друг друга не переносят, будут собачиться и скандалить.
— А потому вынужден извиниться… Срочные дела. Больше вас не задерживаю, господа…
Тисон и Гарсия Пико откланиваются, причем последний — со всеми протокольными церемониями. Губернатор отвечает рассеянно. Когда посетители уже на пороге, он вдруг спохватывается:
— Скажу вам прямо, господа, ясно и откровенно… Мы переживаем момент чрезвычайный и трагический… Как администратор, находящийся на ответственном военном и политическом посту, я обязан находить взаимопонимание не только с Регентством, но и с кортесами, с нашими британскими союзниками и с народом Кадиса. Безотносительно к войне и к французам. И не говоря уж о том, что на мне — управление городом, население коего удвоилось, а обеспечение продовольствием всецело зависит от морских путей… И что надлежит думать о возросшей опасности эпидемий и еще об очень многом другом… И, как вы понимаете, зверские расправы, которые учиняет какой-то вконец ополоумевший маньяк, — это, без сомнения, ужасно, однако все же не главная из моих многообразных забот… По крайней мере, до тех пор, пока это не сделалось предметом публичного скандала. Я понятно выражаюсь, комиссар?
— Вполне понятно, ваше превосходительство.
— Ближайшие дни могут стать решающими, ибо высадка генерала Лапеньи способна переломить ход боевых действий в Андалусии. И стало быть, криминальная обстановка в городе отходит на второй план. Однако если произойдет еще одно убийство, если эта история получит чрезмерную огласку, если общественное мнение потребует найти виновного — он должен быть представлен незамедлительно. Надеюсь, и это понятно?
Да более или менее, думает полицейский. Но ограничивается лишь учтивым склонением головы. Вильявисенсио, повернувшись к посетителям спиной, направляется к своему столу.
— Да, вот еще что, — говорит он, усевшись. — Если бы мне по должности пришлось заниматься этим смрадным делом, я бы нанес, так сказать, упреждающий удар… Постарался бы немного, что ли, ускорить его ход.
— Вы имеете в виду, ваше превосходительство, взять кого-нибудь загодя?
Не обращая внимания на негодующий взгляд Гарсии Пико, Тисон полуобернулся с порога в ожидании ответа. И после недолгого молчания получил раздраженное и неприязненное:
— Я имею в виду убийцу и никого больше. Но сейчас, когда в город хлынуло такое множество чужаков, не удивлюсь, если преступник окажется из их числа.
Дом семейства Пальма — большой, красивый, настоящий господский дом, один из лучших в Кадисе, и Фелипе Мохарра с приятным чувством гордости сознает, что там служит его дочка Мари-Пас. Стоит возле площади Святого Франциска: четыре этажа с пятью балконами и главным подъездом смотрят на улицу Балуарте, а четыре других — на улицу Доблонес, где вход в контору и на склад. Мохарра, прислонясь к тумбе на противоположной стороне, в саморрском одеяле на плечах, в шляпе, туго надвинутой поверх платка, обтягивающего голову, ждет, когда выйдет дочка, и курит самокрутку из мелко накрошенного табака. Солевар — человек гордый, с нерушимыми понятиями о том, какое место кому подобает занимать в этом мире. А потому, когда Мари-Пас предложила подождать ее в патио, пройти за кованую узорчатую решетку, где пол выложен мраморной плиткой, три арки с колоннами ведут на главную лестницу, а на стене перед маленьким алтарем с образом Пречистой Девы Дель-Росарио горит лампадка, — отказался. Ему там быть не по чину. Его место — каналы и болота, его задубелым, сожженным солью ногам неуютно в альпаргатах, надетых по случаю приезда в город, — поскорей бы уж их сбросить. Он выехал спозаранку, выправив разрешение честь по чести, благо капитан Вируэс отправился в Карраку на военный совет и он ему, стало быть, сегодня не понадобится. Вот Мохарра, уступая настоятельным просьбам жены, и отправился в город проведать дочку. Из-за войны и прочих обстоятельств они не виделись целых пять месяцев — с того дня, как по рекомендации приходского священника поступила к Пальма в услужение.
И вот она появляется наконец на улице Доблонес, и солевар умиленно смотрит, как она идет к нему в белом муслиновом переднике поверх темной юбки, в полушалке, покрывающем голову и плечи. Розовая. Здоровенькая. Видно, досыта ест, слава тебе господи. В Кадисе жизнь полегче, чем в Исле.
— Доброе утро, отец.
Они не целуются, не обнимаются. По улице прохожие ходят, с балконов соседи смотрят, а Мохарра — люди с понятиями: не любят, чтоб о них говорили. Солевар, заложив большие пальцы за кушак рядом с роговой рукоятью навахи из Альбасете, лишь ласково улыбается и рассматривает дочку, явно довольный тем, что видит. Выросла, расцвела. Почти женщина. Мари-Пас тоже улыбается, отчего на щеках играют ямочки — те же, что в детстве. Не то чтоб писаная красавица, конечно, но очень славненькая. Глаза большие, нежные. Шестнадцать лет. Чистенькая, нежная, какой всегда была.
— Как матушка?
— Здорова. И сестрички твои, и бабушка. Велели кланяться.
Девушка показывает на дверь магазина:
— Не хотите зайти, отец? Росас, наш дворецкий, сказал, чтоб я вас позвала, угостила чашечкой кофе или шоколада на кухне.
— Хорош буду и на улице. Пойдем-ка пройдемся немного.
Они спускаются по улице до квадратного здания таможни, где за решетчатой оградой прохаживаются два валлонских гвардейца, взяв «на плечо» ружья с примкнутыми штыками. Мягко полощется флаг на мачте. Там внутри сидят сеньоры из Регентства, которое управляет всей Испанией — ну или тем, что от нее осталось. Король-то в плену сидит, во Франции, так вот они вместо него. За крепостной стеной, под ясным, без единого облачка, небом виднеется ослепительная синева бухты.
— Ну, как тебе живется, дочка?
— Очень хорошо, отец. Правда-правда.
— Тебе нравится в этом доме?
— Очень нравится.
Солевар, проведя ладонью по обросшему бакенбардами лицу — подбородок уж дня три как нуждается в помощи цирюльника и его бритвы, — говорит с небольшой заминкой:
— А этот… дворецкий ваш… он, часом, не из этих самых… ну, ты меня понимаешь…
Дочь улыбается:
— Из них.
Здесь много таких, рассказывает она, служат в хороших домах. Люди они как на подбор — порядливые и чистоплотные, так что вроде как бы и обычай здесь в Кадисе такой. Росас — человек честный, рачительный, дом ведет, содержит как положено, всей прислугой командует. А она, Мари-Пас, со всеми ладит, и ее уважают.
— У тебя, может, уже и кавалер какой-нибудь объявился?
Мари-Пас, вспыхнув, бессознательно закрывает лицом краешком своей мантильи:
— Что вы такое говорите, отец? Какой еще кавалер?
Вдоль крепостной стены отец и дочь идут к площади Посос-де-ла-Ньеве и к Аламеде, с разных сторон обходя нацеленные на бухту пушки, если те не дают пройти рука об руку. Внизу о торчащие из воды скалы бьются волны, и над морем как-то особенно суматошно мечутся и галдят чайки. А в вышине целеустремленно и прямо, как по ниточке, пролетает через бухту на другой, материковый берег и тотчас пропадает из виду голубь.
— Хозяева-то не обижают тебя?
— Нет, ну что вы… Сеньорита — такая добрая. Серьезная. Не то чтоб она меня очень близко допускала, но относится… ну просто чудесно.
— Не замужем, я слышал.
— Да захоти она только, от женихов бы отбоя не было. Денег у нее… Как отец преставился, а брат погиб, ей одной все досталось — и дело, и корабли… Весь капитал. Она читать любит и с растениями возиться. Прямо страсть у нее к ним. Из Америки ей привозят всякие диковины, а она их изучает. У нее они и на картинках в книгах, и в гербариях засушены, и в горшках стоят.
Мохарра глубокомысленно покачивает головой. Узнав поближе капитана Вируэса и его рисунки, он уж ничему не удивляется.
— Отчего ж не изучать, раз у нее на все прислуга имеется.
— Не надо так говорить, отец. Старая хозяйка, вдова, матушка ее, она немного того… не в себе. С придурью. С постели не встает, вроде как бы хворает, только она вовсе не больная, а просто желает, чтобы все вокруг нее плясали, а пуще всех — дочка. В доме говорят, не может смириться, что любимого сыночка, Франсиско де Паула, убили под Байленом, а донья Долорес — жива и все дело ведет… Но та все сносит, все терпит. Дай бог каждому такую дочь.