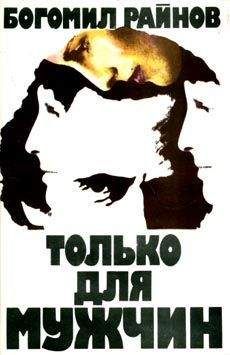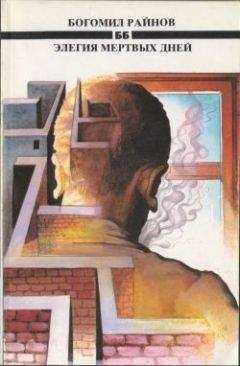Конец сентября похож на зиму. Капризы природы, как гласит наша газетная рубрика. Ветер гонит по пустынному бульвару Раковского отдельных прохожих. Лишь у входа в «Будапешт», как обычно в этот час, царит оживление. Посетители закрывшихся окрестных кабачков жаждут войти, чтобы допить недопитое. Мыслимо ли вернуться домой, не надравшись как следует…
Приблизившись к дому, я вижу, что из парадного выходит какая-то женщина. Значит, у нас и женщины появились. Незнакомка останавливается у самой двери, словно раздумывая, куда ей податься.
– Он меня прогнал, – сообщает она, когда я подхожу ближе.
– Кто? – коротко спрашиваю я и останавливаюсь, незнакомка – та самая женщина, что сидела со мной в концертном зале.
– Ваш сосед.
«Какой сосед?» – следовало бы спросить дальше, однако это меня совершенно не интересует, и я лишь бормочу:
– Весьма сожалею, но за соседей я не отвечаю.
Я уже готов пройти мимо, но тут она произносит совсем иным тоном, неожиданным для ее низкого хрипловатого голоса, почти просительно:
– Я бы хотела поговорить с вами.
– Так говорите… Я слушаю.
– Прямо здесь?
– А чем здесь плохо?
– Холодно…
Только теперь я замечаю, что женщина даже без плаща и туалет ее – если этот термин не воспринимать иронически – никак не подходит для дождливой погоды.
– Вы не боитесь зайти к совершенно незнакомому мужчине? – спрашиваю я, доставая из кармана ключ.
– Мне сейчас не до страхов, – уныло отвечает она. Подумав, добавляет: – И обижаться на ваши шуточки тоже не приходится.
– Входите, – говорю я ей, открывая дверь. – И будьте осторожны, здесь легко поломать ноги… – Теперь, когда она стоит посреди комнаты, в свете маленького абажура, я могу разглядеть ее получше.
Что касается абажура, доставшегося мне в наследство от Жоржа: он очень напоминает верхнюю часть плевательницы, вероятно, украденной в каком-нибудь учреждении. Давно пора было заменить его чем-то более приличным, но Жорж запамятовал взять за плевательницу деньги, следовательно, это был как бы подарок, а подарки не принято выбрасывать.
Вид у женщины внушительный и в то же время жалкий, если эти понятия совместимы. Внушительной ее делает крупная фигура, а жалкой – мокрое летнее платье, неловкая поза и унылое выражение лица.
– Садитесь же.
Она нерешительно смотрит на предложенный стул и так же нерешительно садится. Стул слегка скрипит, но не разваливается. Можно было бы предложить ей другой, но тот еще менее надежен, так что я берегу его для себя.
Говорите же! – мысленно тороплю я, но женщина явно робеет, и я, в ожидании, пока она освоится, предлагаю ей сигареты.
– Я было решила не курить больше, – бормочет она, беря сигарету из пачки.
Чтобы не отощать, – думаю я и предупредительно щелкаю зажигалкой.
Нельзя сказать, что женщина толстая, но худоба ей уж никак не грозит.
– Для меня теперь и сигареты роскошь, – поясняет она равнодушно, сделав глубокую затяжку. – О квартире и говорить нечего. А тут он взял да и прогнал меня.
– Кто вас прогнал?
– Димов.
– А чем он вам обязан, Димов?
– Ничем. Не считая того, что он мой отец.
– Насколько мне известно, у него нет детей, – говорю я после короткой паузы.
– Выходит, так, – соглашается она. – Впрочем, история эта немного запутана…
– Только немного?
– Вы, верно, знаете – он сидел. И я родилась именно тогда, а моя мать отреклась от него и получила развод. Так что вообще-то я его никогда не видела, и он меня – тоже.
– И все же он знал о вас.
– Знал, но вот видите – прогнал.
Наступает новая пауза. И у меня есть возможность мысленно задать вопрос, ну хорошо, а какое я имею отношение ко всему этому?
– Грубый поступок, ничего не скажешь, – признаю я. – И не вполне объяснимый. После того как вы четверть века о нем не вспоминали…
– Больше чем четверть века, – уточняет она в порыве откровенности. – Но я ведь не подозревала, что он здесь, в этом городе… Мне говорили, он где-то исчез в провинции, а после умер… Да я так и думала, иначе ведь рано или поздно он бы меня разыскал…
– Это не обязательно… – бормочу я. – И как вы узнали, что он жив?
– Да по газете. Мне совершенно случайно попал в руки какой-то старый номер вашей газеты с его статьей…
– С интервью?
– Не знаю, но я вдруг увидела его имя: Радко Димов. Не какой-нибудь там Иван Драганов, а именно Радко Димов. И сразу же приехала в редакцию. Неужто вы меня не помните?
– Не приметил, – сознаюсь я, догадываясь, что это, должно быть, та самая женщина, которую таскал за собой Янков. – Хотя, конечно, неприметной вас не назовешь.
– Случайно я поняла по вашему разговору, что вы собираетесь на концерт. А когда я пришла сюда и узнала, что Димова нет дома, я сказала себе: эх, была не была, подамся к «Болгарии», а вдруг тот журналист мне поможет. Там у меня оказались знакомые, они ткнули меня в последний ряд, а когда я заметила свободное место около вас, то увидела в этом добрый знак и после антракта подсела к вам, а вы давай меня распекать.
Она даже не подозревает, как ей повезло, что я ее отчитал. Если бы не это, я бы не чувствовал себя виноватым. А не чувствуй я себя немного виноватым, я бы не пустил ее к себе, чтобы она тут мне досаждала.
– Виноват! – тихо сказал я. – Только чем же я могу вам помочь? Поговорить с Димовым?
– Да ни за что! – Она чуть не подпрыгнула на стуле.
Пускай себе подпрыгивает, только, боюсь, стул не выдержит.
– Тогда чем же?
Женщина сконфуженно молчит, словно собирается с духом.
– Я бы вас попросила… Позвольте мне у вас переночевать.
– А! – говорю я озадаченно.
– Я не буду вам мешать, – торопится она, опасаясь, что я могу отказать ей, – и пробуду у вас всего день или два.
– Но я вас не знаю… И вы меня тоже. И потом, где я вас положу, себе на голову?
– Где-нибудь. Тут, верно, есть какая-то прихожая?
– Какая прихожая? Там грязища, горы всякой рухляди…
– Вот я и приберу там немного, чтобы не остаться перед вами в долгу, – заключает женщина так, как будто все уже решено.
– Я ставлю в глупое положение и вас, и себя, – признается она. – Но поймите, у меня нет выбора. Или ночевать на улице в такой дождь…
У меня вырывается страдальческий вздох – я ловлю себя на том, что начинаю раскисать, хотя мысленно внушаю себе: только не вздумай размякнуть, не вздумай размякнуть! В конце концов я открываю дверь чуланчика, на которую женщина уже посматривала.
– Послушайте, здесь есть нечто вроде чулана, только не могу ручаться, что в нем чисто. В прихожей валяется какой-то пружинный матрац. Если это убожество вас устроит…
– Меня все устроит!
– И если вас не раздражает запах роз…
– Роз? – Она удивленно смотрит мне в глаза.
– Прежний жилец был убежден, что в чулане пахнет розами. Кто как воспринимает.
Она тоже встала и подошла к чулану, как бы желая убедиться, насколько уместно говорить о розах. Ее крепкое тело в двух пядях от меня, и я чувствую, что это для нее самый деликатный момент. Она определенно ждет, что я потребую плату за постой, плату натурой. Не знаю, что сопутствует этому ожиданию – симпатия или смирение, однако напряженность момента нарастает.
– Тогда мне остается притащить для вас пружинный матрац, и я могу ложиться, – говорю я ей. – А вы возьмите вон те одеяла и тоже устраивайтесь. И если утром вам понадобится ванная, постарайтесь воспользоваться ею до девяти, потому что после девяти моя очередь.
Мои прозаические наставления явно встречены с признательностью. На лице женщины проступает облегчение, смешанное с недоумением, а может быть, и гримаска задетого самолюбия: хорошо, конечно, что этот тип не пристает, но чтобы уж совсем не обращать внимания…
Скажи спасибо, что ты женоненавистник, говорю я себе, когда женщина наконец оказывается в чулане, а я – в постели. Таков уж ты, ничего не поделаешь, сонно повторяю про себя, пока не засыпаю. А когда незаметно погружаюсь в сон, то, представьте, при всем своем женоненавистничестве начинаю искать во сне Бебу.
Должно быть, я пришел немного раньше назначенного часа, мне приходится дважды позвонить, но дверь и после этого не открывается, только слышится неприязненный вопрос:
– Кто там?
– Он самый.
Дверь чуть-чуть приоткрывается – настолько, сколько нужно, чтобы проскользнула кошка.
– Входи и закрывай!
Я попадаю в прихожую, отделанную полированными щитами. Венера выходит из волн, сиречь Беба – из ванной. Даже не одна, а две Бебы, если считать ту, что отражается в большом зеркале. Как и полагается Венере, она голая и мокрая.
– Воспитанные люди приходят минута в минуту, – недовольно ворчит Беба. – Заставил меня выбираться из ванны.
– Ничто тебе не мешает снова забраться в нее, – отвечаю я и, бросив на вешалку плащ, прохожу в гостиную.
Беба, вероятно, последовала моему совету, так как еще добрых десять минут я остаюсь в одиночестве среди бледно-голубых обоев и мебели с бледно-голубой обивкой. Что касается Бебы, то для нее точность – вопрос удобства, а вовсе не воспитания. Этакая королева удобства. Она знает свою рабочую программу на неделю вперед – в какие часы у нее покер, когда она в парикмахерской, у маникюрши, у портнихи. У нее заранее спланировано, кто и в какое время ее посетит, и даже финансовые операции строго распределены в ее расписании.