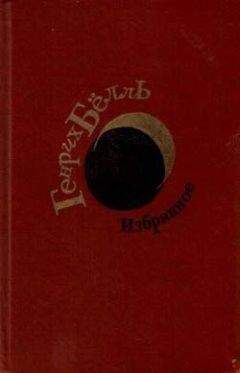– С чего ты вдруг вспомнила о Гезелере?
– Да так, я просто подумала о том, что ты ведь никогда не говоришь о Рае. Ты-то должен бы все знать, но ты никогда ни о чем не говоришь.
Альберт молчал. Последние недели перед смертью Рай совершенно отупел, он еле волочил ноги, и вся их дружба сводилась теперь к тому, что они делились сигаретами и помогали друг другу устраиваться на привалах и чистить оружие. Рай устал, как большинство пехотинцев, от которых он почти не отличался. Но при виде некоторых офицеров он загорался ненавистью.
– Есть и еще кое-что, о чем ты никогда не говорил, – сказала Нелла.
Альберт взглянул на нее, протянул ей пустую чашку, она налила ему кофе; пока он размешивал молоко и дробил ложечкой сахар в чашке, он выгадывал время, чтобы все обдумать.
– Много тут не скажешь, – ответил он. – Рай устал, он был очень подавлен, и если я не говорил об этом, то только потому, что сам ничего толком не знаю. Немного, во всяком случае.
Он поймал себя на том, что думает о большой коробке «Санлайт» и о ворчливой маленькой продавщице, которая дала ему тогда эту коробку: было уже темно, а ему совершенно не хотелось идти домой в пустую комнату, где дымила печка, где горький жирный чад пропитал всю мебель, всю одежду, все постельное белье, где на табурете еще стояла спиртовка Лин, заляпанная супами, которые всегда у нее убегали.
– Рай как-то отупел и опустился, – продолжал Альберт, когда Нелла взглянула на него, – но я уже застал его таким, когда вернулся из Англии. В нем убили душу, опустошили; за четыре года он не написал ничего, что могло бы его порадовать.
Альберту припомнилась напряженная тишина, которая воцарилась сразу после объявления войны: на какое-то мгновенье стало тихо во всем мире, пока не пришла в движение первая шестеренка в готовом к пуску механизме, но вот она совершила оборот, механизм заработал, усугубляя тупость и покорность.
Когда Нелла протянула ему сигарету, он отрицательно покачал головой, но по привычке полез в карман за огнем и дал ей прикурить, избегая, однако, встречаться с ее выжидающим взглядом.
– Правда, – сказал он, – никакой тайны в этом нет. Но поэту, разумеется, не очень-то приятно всюду натыкаться на рекламные лозунги, которые он сам сочинил, на рекламу для мармелада. «Таков, значит, мой вклад в войну против войны», – сказал мне как-то Рай и со злостью отшвырнул ногой жестяное ведерко с фабрики твоего отца. Дело было на базаре, в Виннице, какая-то старушка продавала печенье – ореховое печенье – в чистеньком ведерке из-под мармелада; все печенье покатилось по земле, мы с Раймундом помогли женщине собрать печенье, уплатили ей сколько следовало и извинились перед ней.
– Продолжай, – сказала Нелла, и он увидел, что она крайне возбуждена, словно ждет самых неожиданных разоблачений.
– Вот и все, – сказал он. – Через две недели Рай погиб, но даже дорога к смерти была для него усеяна жестяными банками из-под мармелада: не сладко нам было» всюду натыкаться на это добро, это просто изводило нас, а другие ничего не замечали, только… ты ведь рассердишься и возненавидишь меня за то, что я тебе все это рассказываю.
– А тебе так важно, ненавижу я тебя или нет?
– Конечно, – ответил он, – мне это очень важно.
В течение всего разговора он не отрывал от Неллы глаз, смотрел ей в лицо, но выражение ее лица не менялось. Правда, она достала из пачки другую сигарету и раскурила ее, хотя старая, еще не докуренная, дымила в пепельнице.
– Обо всем этом, Нелла, я больше не хотел бы говорить, мы знаем, что Рай мертв, мы знаем, как он умер, а выискивать причины бессмысленно.
– Это правда, что он ни о чем больше с тобой не говорил, как ты меня всегда уверяешь?
– Нет, он уже не мог говорить, у него было прострелено дыхательное горло. Он только смотрел на меня, но я ведь знал его, и в его взгляде, в пожатии его руки я мог прочесть, что он зол на войну, зол, может быть, на самого себя, и что он любит тебя, и что он просит меня позаботиться о ребенке. Ты писала ему, что ждешь ребенка. Вот и все.
– Он не молился? Ты ведь всегда говорил…
– Может быть, во всяком случае, он перекрестился, но об этом я никому и никогда не скажу, а если ты расскажешь кому-нибудь из этих свиней, я убью тебя. То-то была бы для них пожива, и легенда полностью была бы завершена.
Нелла увидела дымящуюся в пепельнице сигарету, улыбнулась и погасила ее.
– Обещаю тебе никому ничего не рассказывать.
– Было бы неплохо, если бы ты вообще выставила всех этих людей.
– А мальчику ты все расскажешь?
– Со временем.
– Ну, а Гезелер?
– Что «Гезелер»?
– Ничего, просто я иногда упрекаю себя за то, что не испытываю неугасимой мстительной ненависти к нему.
– По существу, он с Шурбигелем великолепная пара. Что такое, что с тобой? Почему ты вдруг покраснела?
– Оставь меня, оставь меня в покое на несколько дней: я должна на досуге многое продумать. Дай мне, пожалуйста, письма.
Он допил кофе, пошел в свою комнату, взял обе пачки писем и положил их на стол перед Неллой.
Нелла так и не прикоснулась к этим письмам; спустя несколько недель он увидел, что обе пачки лежат неразвязанными на ее письменном столе.
Альберт по целым дням возился с рабочими, совещался с ними, производил расчеты. Насос в подвале отремонтировали, крышу – тоже. На втором этаже заново оштукатурили потолки. Больда могла теперь во время стирки спускать воду в водосток, подвал очистили и выморили крыс. Из подвала выбросили заплесневелые продукты, горы тряпья и картофель с длинными, как спаржа, ростками.
Альберт велел заменить затемняющее свет зеленое стекло в окнах передней, и там стало светло.
Бабушка только головой покачивала, глядя на всю эту кипучую деятельность, она теперь чаще выходила из своей комнаты, следила за рабочими и сделала потрясающее заявление, что сама оплатит ремонт. Нелла высказала догадку, что это решение продиктовано исключительно любовью бабушки к чековой книжке, которой она пользовалась с чисто детской гордостью. Она очень охотно извлекала ее из ящика письменного стола, раскрывала, заполняла с министерским видом голубоватый чек, прикладывала к нему промокательную бумагу и элегантным жестом отрывала его от корешка. Быстрый свистящий шелест отрываемого чека вызывал на ее большом розовом лице блаженную улыбку. С того мгновенья, когда она, двадцатитрехлетняя женщина, сорок лет тому назад стала обладательницей чековой книжки, ее детская радость по поводу того, что она одним росчерком пера делает деньги, ничуть не уменьшилась. Она изводила уйму чековых книжек, потому что расплачивалась чеками за всякий пустяк, даже за еду в кафе и ресторанах, а нередко случалось, что она посылала Мартина с чеком на четыре марки к лотошнику – купить четыре десятка «Томагавка». А если платить было уж совсем не за что – и сигаретница полна, и холодильник набит всякими продуктами, – тогда бабушка бродила по дому и всем предлагала деньги ради того только, чтобы услышать скрипучую, как звук пилы, мелодию отрываемого чека. С сигаретой во рту, с чековой книжкой в руках – при появлении крови в моче она точно так же таскала с собой ночной горшок, – бабушка сновала из комнаты в комнату и всем говорила: «Если тебе нужны деньги, я могу тебе подкинуть», после чего немедленно усаживалась на стул, открывала авторучку – ею она тоже пользовалась с чисто детской гордостью – и спрашивала: «Сколько тебе?» Глум в таких случаях держался лучше всех, он называл огромную сумму, подсаживался к ней, долго торговался, затем наконец бабушка заполняла чек и выдергивала его. Но не успевала она выйти, Глум тут же разрывал чек – точно так же поступали и все остальные – и бросал обрывки в мусорный ящик.
Но больше всего бабушка сидела у себя в комнате, и никто толком не знал, чем она весь день занимается. Она не подходила к телефону, не открывала дверь на звонок. Часто она появлялась из своей комнаты только около полудня и в теплом цветастом халате направлялась на кухню, чтобы взять завтрак. Обычно слышен был только ее кашель, потому что комната бабушки всегда полна была дымом от бесчисленных сигарет, и дым этот узкими серыми струйками просачивался в переднюю. В такие дни никому не разрешалось видеть ее, никому, кроме Мартина, которого она звала к себе.
Если удавалось, мальчик удирал, едва заслышав бабушкин голос, но зачастую она настигала его, тащила в свою комнату, и он должен был часами выслушивать длинные нравоучения и маловразумительные рассуждения о жизни и смерти и демонстрировать свои познания в катехизисе. Больда, учившаяся когда-то с бабушкой в одной школе, ехидно посмеиваясь, не упускала случая заметить, что сама бабушка никогда не блистала по части катехизиса.
Задыхаясь в бабушкиной комнате, наполненной дымом, Мартин сидел в кресле у письменного стола, смотрел на измятую постель, на чайный столик с неубранной после завтрака посудой и следил за разнообразными оттенками дыма: синие, ослепительно синие маленькие круглые облачка выпускала изо рта бабушка. Она очень гордилась тем, что вот уж тридцать лет курит. После глубокой затяжки из ее рта вырывались густые светло-серые, с просинью, клубы дыма, профильтрованные в легких. С силой вытолкнутая струя дыма несколько секунд держалась в тяжелом, сизо-сером, насквозь прокуренном воздухе комнаты; удушливый, горький, серый чад оседал на потолке, под кроватью, на зеркале, собирался в сизо-серые клубы, в густые белесые облака, напоминавшие растрепанную вату.