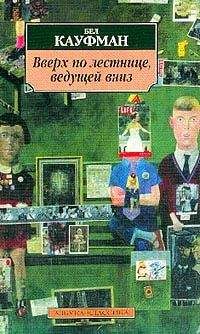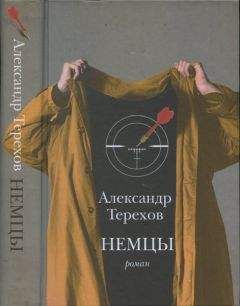Да, князья тридцатых годов получали жену-еврейку с неотвратимостью положенного, как дачу, автомобиль и телефонный аппарат для связи с Кремлем, прозванный «вертушкой», – еврейки чем-то выделялись в истощенном эмиграцией женском культурном слое. Профессиональные антисемиты составили длинные таблицы родо-племенных связей императорских слуг (Бухарин, Молотов, Киров, Калинин, Рыков, Андреев, Поскребышев, Буденный, Яков Сталин и мн. др.), густо засадив их Полинами Абрамовнами, Аннами Мироновнами и Раисами Иосифовнами (урожденными Зунделевич), и перечеркали пересекающимися стрелками (евреек не хватало, и некоторые примерили не одну фамилию членов Совета Народных Комиссаров), разоблачая происки «мировой закулисы». Но предвоенные казни таблицу опустошили, а в войну император ввел моду на русских круглолицых и глупых домохозяек, бывших подавальщиц гарнизонных столовых и медсестер.
Что могу сказать, осмотрев тело?
Алексей Иванович Шахурин занимал комнату на четвертом этаже императорской власти, соседствуя с равновеликими «наркомами ключевых отраслей». Выше жило «партийное руководство» (пять-семь человек), еще выше маршалы народного хозяйства (не более десятка) и всех выше – «узкое руководство» (император, Молотов, Маленков, – на тот момент – и Лаврентий Берия) – порядковый номер Шахурина в Империи располагался между 25 и 50.
Уманский хорошо если замыкал третью сотню.
Сознавал ли Володя Шахурин силу своей родовитости? Но что эта сила советского мальчика, этот «серп-молот» красивой девчонке, приехавшей из Вашингтона в нейлоновых чулках?
Прошли все сроки давности, отклеились и раскрошились печати «Совершенно секретно» с пыльных картонных папок, а жизнь Шахурина, как жизнь любого императорского сокола, как была, так и осталась сочетанием абсолютной прозрачности с абсолютной непроницаемостью. Отдал душу делу коммунистической партии, строил коммунизм на земном шаре, до смерти называл императора Отцом (даже после шести лет в одиночной камере по «делу авиаторов») – выполнил свое обязательство перед Империей, обещавшей ему (как и всем, кто признавал свою мнимую вину перед расстрелом) что-то, по силе сравнимое с бессмертием, – обязательство отдать ей, Империи, все и лично, вне железного марша, почти не существовать.
Мне оставалось «почти» – я разровнял на столе холмик добытого песка, вывел на нем пару латинских букв и прочертил зубчатую бороздку, сразу обнаружив главное.
Нарком умер 3 июля 1975 года.
Никто не слышал, чтобы он вспоминал сына. «Про сына они не говорили. Много говорили о цветах на могиле. Там всегда море цветов».
Я со злостью влепил по рыжеватой, холеной морде, по белым кителям: что так-то?! Разок бы пустил слезу! Заскучал бы о нерожденных внуках. Пробормотал бы: эх, Володька б сейчас, если бы жив… Сокрушался бы с товарищем-ветераном по пьяни: вот так и так это получилось, Иван Палыч, что ты будешь делать; и воспитывал-то я его правильно, а все одно душа не на месте, чую вину! Не уберег…
Хоть бы девочку мог пожалеть – Нина такая была, учились в одном классе, пару раз всего видел ее, красивая девчонка… Отец ее, Константин, помню, подошел на похоронах… Глаз поднять не мог на него, сам плачу стою… Ах, Вовка, Вовка… Каждую ночь перед глазами встает!
С точки зрения учительницы начальных классов Шахурин должен был вспоминать сына. Тем более если мальчика убили. Если на имя единственного сына лег напрасный позор.
Но Шахурин молчал, как все. И это молчание, с точки зрения людей правды, могло скрывать все что угодно.
Мне оставалось протереть пальцы спиртом и достать лупу, чтобы рассмотреть малозначимые подробности состояния трупных тканей.
Отец – медник из села Михайловского, дважды раненный на Первой мировой и до гроба паявший медные трубки (нарком тем временем обедал с императором в Кремле) для гидравлических систем управления самолетом.
Сын до революции пахал с двенадцати лет учеником электроинженера в конторе Заблудовского, три года молотобойцем и фрезеровщиком на заводе «Манометр» (любил петь за работой); потом райком комсомола, инженерно-экономический институт, академия Жуковского (в те времена, когда Петровским дворцом на Ленинградском проспекте, отданным авиаторам, заканчивалась Москва), авиационные заводы и вдруг первый секретарь ярославского обкома, а через год – горьковского.
«Я всегда менял Кагановичей». В горьковском обкоме сменил Юлия Моисеевича, в наркомате авиапромышленности наследовал Михаилу Моисеевичу – тот называл «мордочкой» самолетный нос, в авиации не разбирался (все это и последующее, возможно, неправда) и руководил угрозами. Император возмутился: «Какой он нарком? Что он понимает в авиации? Сколько лет живет в России, а по-русски как следует говорить не научился!» – восторг рекордных перелетов через полюс и небольших авиационных успехов начала испанской войны прошел, завиднелось могильное «мы не готовы». Сталин объявил третьему Кагановичу – Лазарю, тогда входившему в топ-25: «Твой брат связался с правыми». «Пусть судят, как полагается по закону», – шевельнулись железные губы (Нет, неправда! – хрипел в завещании столетний Лазарь, уже проржавев, – Я БОРОЛСЯ! я требовал очной ставки! все заводы построил брат, Шахурин пришел на готовое!). Отпущенный с первого допроса, Михаил Каганович, запомнившийся шумливостью и вниманием к отделке кабинета, вышел в коридор, достал пистолет и выстрелил себе в сердце. У имперской авиапромышленности появился новый нарком. В календаре январь 1940 года, если кто-то следит за датами.
Алексей Иванович, как и Уманский, как двадцать пять тысяч лучших русских того времени, отливался по одной мерке «сталинского сокола»: «Отложив все свои дела, я взял лист бумаги, карандаш, сел за письменный стол и быстро, уверенно, впервые в жизни написал „Товарищ Сталин!“. Звонит телефон, прибегает посыльный, скачет сын сторожихи на сельсоветской кобыле, ломается голос ординарца – в руке разворачивается телеграмма: вас вызывает товарищ Сталин, можете выехать немедленно? Летит самолет над дрожащими огоньками, быстро проходит железнодорожная ночь, летит мелкий щебень из-под колес автомобиля, „вся жизнь проходит перед глазами“ – призванный просматривает на экране ночи: вонючая тряпка трактирного приказчика, погоняющая постреленка, зуботычина вахмистра на фронте, нищета матери, видение ЛЕНИНА, довольно скомканно и уклончиво про революционные годы (не все маршалы осмеливались признать, что встретили и проводили Октябрь и несколько следующих месяцев, а то и лет на позиции скорняка или писаря в заготконторе), подробней про учебу в гимнастерках, ступеньки рабочих мест, взлет с первой космической в 1937—1938-м… Да, трудности, но никаких убийств по две тысячи в сутки и исчезающих товарищей, просто минимум фамилий, и вот – утреннее спокойное лицо часового у Спасской башни, смутно, но обязательно – немолодой человек с необычно красным лицом в приемной (впоследствии оказалось – товарищ Поскребышев) и глуховатый голос божества (мало кто осмеливался в описании продвинуться дальше размеров кабинета и выше кроя сапог: „фигура среднего роста“, „серый френч“, „легкий светло-серый костюм военного покроя“, „полувоенная форма“, „наглухо застегнутая куртка“, „шаровары защитного цвета“, „мягкие черные сапоги без каблуков, какие обычно носят горцы на Кавказе“, – но каждый: „В его левой руке дымилась трубка“). Товарищ, как вы смотрите на то, что мы хотим вам поручить, дело очень важное и новое для вас, но… Мы вас скоро вызовем, до свиданья. Прикосновение руки.
«Ушел я от Сталина как во сне».
Никто не мог объяснить, как это происходило. «Уже наступили сумерки, когда мы покидали Кремль, – пытался сохранить рассудок югослав Милован Джилас, ненавидевший императора. – Офицер, который сопровождал нас, явно уловил наше восхищение. В это время года в Москве бывает северное сияние… Все приняло фиолетовые краски и мерцание – нереальный мир, более красивый, чем тот, в котором мы жили…»
В Москве не бывает северных сияний.
И взмывали призванные в небо – из подполковников в главные маршалы артиллерии за три года: переговоры, посевные, авиационные моторы, смазка стволов, умные академики, тяжелые «ЗИМы», сознательные бойцы, героические труженики тыла, справедливость партийных органов, полное несуществование человека по имени Лаврентий Берия (без которого на самом деле в обороне и науке не обходилось ничего). И даже если посреди полета зиял семилетний тюремный срок, выбитые передние зубы и расстрелянные двоюродные и родные братья, то это бесследно скрывала толща безмерной благодарности судьбе за выпавшее счастье сделать то, что неплохо было бы повторить и молодежи.
Никакой любви. Никаких там детишек и карточных игр, родительских собраний, футбола, красивых баб, просмотров кинофильмов, застолий (лишь хрестоматийная стопка «За победу!» – ее почли долгом описать все, – получается, что они выпили за жизнь); никаких похоронок с фронта и старух в сожженных деревнях, разрухи и людоедства, никаких сирот павших и казненных товарищей… Не поднимая глаз от борозды, растворяясь в цитатах классиков марксизма-ленинизма, в послесловии буквально превращаясь в Программу Коммунистической Партии Советского Союза, они уходили, сильно изменившись в гробах, успев прошептать, пока съезжались крематорные врата, самое главное – пару легенд про императора: хоть и обидел, хоть перестал звонить и вызывать, но в марте сорок шестого взял вдруг и – поставил стул в первый ряд маршалов на парадной фотосъемке в Георгиевском зале – и на этот стул меня молча усадил – своей рукой! – и что может быть выше? – прощайте, товарищи!