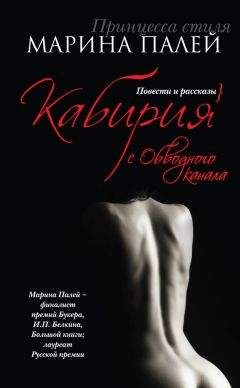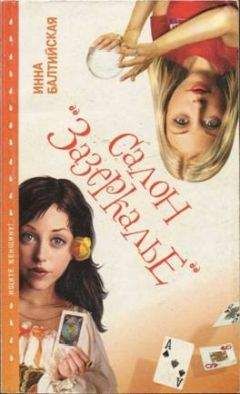И дело даже не в том, что я стала воспринимать наши соития, скомбинированные с мерзейшими проявлениями животного Хенкового скупердяйства, почти как должное. Дело также не в том, что я понимала: это и есть соития семейной жизни: то есть бедное, но необходимое удовольствие – которое, конечно, не может компенсировать толстый-толстый слой грязи – дело даже не в том, что я стала воспринимать эти соития уже и так – с паршивой овцы – хоть шерсти клок...
«Дело», то есть главное зло этой уродливой ситуации, состояло, может быть, в том, что, когда однажды мы (после скандала из-за пригоревших спагетти) особенно яростно, особенно отчаянно совокуплялись – визжа и катаясь по грязному полу, под длинным-длинным столом, – я вдруг увидела в проеме входной двери бледного, почти белого Робера: держась за сердце, не имея сил оторвать взгляд, он смотрел на нас с нескрываемым ужасом. С ответным ужасом (не сбивая Хенка с правильно пойманного ритма) я вспомнила, что сама, сделав единственное исключение, велела Роберу прийти сегодня сюда, к этому времени (навести финальный порядок в наших деловых бумагах)...
Он развернулся и бесшумно исчез. Бесшумно – потому что любые звуки перекрывал дьявольский вой, исходивший от нас, двух грязных разъяренных зверей...
После этого я Робера уже не видела.
Телесная составляющая, разумеется, не является незыблемым показателем ускользающего понятия «совместная жизнь». Кроме того, европейцы – в вопросе этой самой составляющей – увы, не особо продвинулись, – и я разделяю впечатление индусов, которые, наблюдая в свое время комически-поспешные соития завоевателей с аборигенками, наградили первых презрительной кличкой the sparrows (воробьи). Правда, совокупления эти, по европейским меркам, не были такими уж торопливыми – так что представитель, например, королевской кавалерии успевал иногда подковать лошадь и привести в порядок свою амуницию, пока его однополчанин, занимаясь скрытым геноцидом туземцев, то есть увеличением в перспективе поголовья белой расы, все служил, служил и служил (хотя бы альтернативно) английской королеве. Аборигены имели в виду не физическое время соития, а нечто свое, индусское, совершенно не ведомое обделенным астральными щедротами бледнолицым сынам Европы...
А может, у каждого континента – свой, резко отгороженный астрал? Наверное – и, скорее всего, – так. Эгрегор-то именно свой. Именно об этом я подумала, когда Хенк, заботливо неся настороженное и откровенно-скорбное выражение лица, вручил мне распечатку со счетом за телефон. Там, его рукой, были отмечены мои звонки (то есть почти все), включавшие, главным образом, международные, которых скопилось на триста гульденов. К счастью, несколькими днями раньше, я как раз получила хороший гонорар за выступление в элитном клубе транссексуалов, так что незамедлительно, с довольной и гордой улыбкой, эти триста гульденов ему протянула.
Он засунул деньги в карман джинсов, вышел, а я продолжила эскизы для своих концертных платьев в стиле конца сороковых, послевоенных, – и начала пятидесятых... Испытывая небесное блаженство, я погрузилась в атмосферу возрождения и расцвета женственности... Я чувствовала себя, как в райских кущах, als God in Frankrijk...[7] Поэтому трудно даже вообразить мой ужас при внезапном грохоте и последовавшем вопле:
– Триста гульденов!!! Ох, чтоб ты подохла!!! Триста гульденов!!!
Бледный, как труп, – жуткий, как висельник с выпученными глазами, Хенк держал в дрожащих руках все те же телефонные счета. Дверь, чуть не сорванная с петель, шарахнула по стене ангара – от нее отлетел огромный кусок штукатурки...
– Триста гульденов!!! Триста гульденов!!!
Я видела, что он не в себе. Выйти из этого состояния помогает либо ведро ледяной воды, либо хорошая, полновесная пощечина. Я прибегла ко второму средству. Хенк мгновенно затих. Для закрепления результата я вмазала ему снова. Затем, в качестве превентивной меры, – еще разок. Он задрожал и, судорожно скинув джинсы, попытался повалить меня на матрас.
– Да ты с ума сошел, что ли?!!
Лежа рядом и поглаживая его обнаженный торс, я по-честному пыталась выяснить причину припадка:
– Послушай, но это ведь мои деньги, и я их плачу...
– Ну да...
– Послушай, но ты ведь был абсолютно спокоен... вышел...
– Ну да...
– С тех пор, как ты вышел, прошло (смотрю на часы) целых двадцать минут...
– Да, да...
– ... и тут ты врываешься, как буйнопомешанный. Объясни, что произошло?!
– Соланж...
– Да?..
– Соланж... Я вышел совсем не спокойным, нет... Ты транжиришь деньги, Соланж!.. Так нельзя! У тебя дырка в ладони, как у нас говорят...
– Мне виднее. Мое дело. Мой заработок.
– Нет, ты транжиришь!..
– В любом случае это мои деньги – тебя не касаются...
– Нет, это глупо! Триста гульденов в месяц![8]
– Однако за двадцать минут, я полагаю, ты мог успокоиться.
– Да, наверное.... Но я, наоборот, завелся... Я сидел у себя наверху и все думал – идти к тебе или нет... и все сдерживал, сдерживал себя... все эти двадцать минут старался чем-нибудь отвлечься... Но... чем больше я сдерживал себя, тем больше, в итоге, распалялся...
Я мягко отстранилась и – оказалась уже по ту сторону черты. Так со мной почему-то всегда. В точке разочарования я теряю интерес тотально. Забываю о человеке мгновенно. Именно так: мгновенно. То есть головой помню – хвори Альцгеймера у меня нет – но в памяти чувств у меня наступает полный и необратимый провал.
– Я ухожу, Хенк.
– Соланж!!! Соланж!!! Ты же сама говорила, что я болен!..
– От этой болезни я не смогу тебя вылечить. И потом: у тебя есть родители.
– Ха! «Родители»! Да это же чокнутые придурки!..
– Я ухожу.
Направляюсь на балкон, беру необходимое. Возвращаюсь. Сгоняю Хенка с матраса. С треском распахиваю плотоядные чрева чемоданов и кофра. Начинаю метать туда свои концертные платья, корсеты, веера, юбки, боа...
Когда во французских фильмах французская женщина покидает долговременного любовника или мужа, она ограничивается изящной корзиночкой, на дно которой сердито бросает блузку, шелковый шарфик, флакончик духов, затем прихватывает плюшевого медвежонка – и была такова. А что делать, если из-за работенки в кабаре, антрепризах, шоу – одних только туфель – двадцать три пары? Все они стоят сейчас в ряд под ложей Хенка – омытые, я надеюсь, целительной энергией Ки... Да еще надо помнить о множестве мелких-премелких вещиц, которые необходимо будет сейчас, дополнительно концентрируя мозги, вычленять хирургическим путем из раскиданных, словно взрывом, мелких вещичек Хенка... О, Езус!..
Пока я бегаю туда и сюда по этой враз опротивевшей мне обители, Хенк, парализованно, то есть даже без участия папироски, наблюдает за моими действиями – и вдруг, резко вскочив, начинает, неожиданно для меня, в голос рыдать:
– Я никогда не был счастлив, никогда!!!
Солнце светит ему в орлиный его профиль, и сопли, растянувшись до пола, сверкают, как драгоценные сталактиты.
– Никогда, никогда!! – наклонив голову, он делает несколько шагов, валится на колени и, ловко на них проехав (совсем как Барышников в фильме «White Nights»), перегораживает мне выход из матрасной.
– А я тут при чем?
– С тобой-то как раз был – это я без тебя никогда не был! И не буду! Ты – экс... клю... экс... клю... (всхлипы)... ты – эксклюзивная, Соланж...
– Да отстань! Тебе бы только трахаться.
– Ну и что? А если с тобой никак по-другому?! Вот будет мне восемьдесят, тогда перестану...
– Когда тебе будет восемьдесят, мне будет девяносто пять. Если будет... Дай пройти.
– Не дам!
– Нет: ты дашь мне пройти – и сам, сейчас, вызовешь мне такси.
– Я себе вены вскрою!
– Лучше член ампутируй.
...Примерно через неделю он позвонил. Я временно поселилась у наших осветителей – двух геев из «КВИНТОЛЯ». Хенк много говорил. Главное его обвинение против меня состояло в том, что я, оказывается, слишком легко пришла и слишком легко ушла; мне не интересно было вступать в дебаты по поводу «слишком – не слишком», «легко – нелегко»; я говорила с ним в тоне вежливой нейтральной приветливости, как говорят в особенно скучных случаях.
В Америке, где за три года я побывала с гастролями почти во всех штатах, успев оценить эту удобную для жизни, богатую здоровой природой страну, у меня прошла отдельная ото всех жизнь, которая, как мне казалось, отсекла все или почти все связи с моим прошлым. Но контракт закончился; на обратном пути в Нидерланды я летела через Израиль.
Я планировала провести в Израиле дней семь: несколько выступлений и, главным образом, переговоры. Конечно, я выкроила время и для посещения святых мест... Но... как бы это сказать... Моя собственная эзотерика всегда убедительней для меня заемных мифов и легенд.