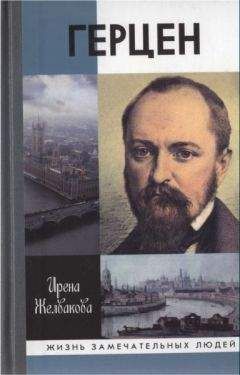Камердинер обыкновенно при таких проделках что-нибудь отвечал; но когда не находил ответа в глаза, то, выходя, бормотал сквозь зубы. Тогда барин, тем же спокойным голосом, звал его и спрашивал, что он ему сказал?
— Я не докладывал ни слова.
— С кем же ты говоришь? кроме меня и тебя, никого нет ни в этой комнате, ни в той.
— Сам с собой.
— Это очень опасно, с этого начинается сумасшествие.
Камердинер с бешенством уходил в свою комнату возле спальной; там он читал «Московские ведомости» и тресировал[80] волосы для продажных париков. Вероятно, чтоб отвести сердце, он свирепо нюхал табак; табак ли был у него силен, нервы носа, что ли, были слабы, но он вследствие этого почти всегда раз шесть или семь чихал.
Барин звонил. Камердинер бросал свою пачку волос и входил. (108)
— Это ты чихаешь?
— Я-с.
— Желаю здравствовать. — И он давал рукой знак, чтоб камердинер удалился.
В последний день масленицы все люди, по старинному обычаю, приходили вечером просить прощения к барину; в этих торжественных случаях мой отец выходил в залу, сопровождаемый камердинером. Тут он делал вид, будто не всех узнает.
— Что это за почтенный старец стоит там в углу? — спрашивал он камердинера.
— Кучер Данило, — отвечал отрывисто камердинер, зная, что все это — одно драматическое представление.
— Скажи, пожалуйста, как он переменился! я, право, думаю, что это все от вина люди так стареют, чем он занимается?
— Дрова таскает в печи.
Старик делал вид нестерпимой боли.
— Как это ты в тридцать лет не научился говорить?.. таскает — как это таскать дрова? — дрова носят, а не таскают. Ну, Данило, слава богу, господь сподобил меня еще раз тебя видеть. Прощаю тебе все грехи за сей год и овес, который ты тратишь безмерно, и то, что лошадей не чистишь, и ты меня прости. Потаскай еще дровец, пока силенка есть, ну, а теперь настанет пост, так вина употребляй поменьше, в наши лета вредно, да и грех.
В этом роде он делал общий смотр.
Обедали мы в четвертом часу. Обед длился долго и был очень скучен. Спиридон был отличный повар; но, с одной стороны, экономия моего отца, а с другой — его собственная делали обед довольно тощим, несмотря на то что блюд было много. Возле моего отца стоял красный глиняный таз, в который он сам клал разные куски для собак; сверх того, он их кормил с своей вилки, что ужасно оскорбляло прислугу и, следовательно, меня. Почему? Трудно сказать…
Гости вообще ездили редко, обедать — еще реже. Помню одного человека из всех посещавших нас, которого приезд к обеду разглаживал иной раз. морщины моего отца — Н. Н. Бахметева. Н. Н. Бахметев, брат хромого генерала и тоже генерал, но давно в отставке, был дружен с ним еще во время их службы в Измайловском полку. Они вместе кутили с ним при Екатерине, при Павле (109) оба были под военным судом: Бахметев за то, что стрелялся с кем-то, а мой отец — за то, что был секундантом; потом один уехал в чужие края — туристом, а другой в Уфу — губернатором. Сходства между ними не было. Бахметев, полный, здоровый и красивый старик, любил и хорошенько поесть, и выпить немного, любил веселую беседу и многое другое. Он хвастался, что во время оно съедал до ста подовых пирожков, и мог, лет около шести десяти, безнаказанно употребить до дюжины гречневых блинов, потонувших в луже масла; этим опытам я бывал не раз свидетель.
Бахметев имел какую-то тень влияния или по крайней мере держал моего отца в узде. Когда Бахметев замечал, что мой отец уж через край не в духе, он надевал шляпу, и, шаркая по-военному ногами, говорил:
— До свиданья, — ты сегодня болен и глуп; я хотел обедать, но я за обедом терпеть не могу кислых лиц! Гегорсамер динер!..[81]
А отец мой, в виде пояснения, говорил мне:
— Impressario![82] какой живой еще Н. Н.! Слава богу, здоровый человек, ему понять нельзя нашего брата, Иова многострадального; мороз в двадцать градусов, он скачет в санках, как ничего… с Покровки… а я благодарю создателя каждое утро, что проснулся живой, что еще дышу. О… о… ох! недаром пословица говорит: сытый голодного не понимает!
Больше снисходительности нельзя было от него ждать.
Изредка давались семейные обеды, на которых бывал Сенатор, Голохвастовы и прочие, и эти обеды давались не из удовольствия и неспроста, а были основаны на глубоких экономико-политических соображениях. Так, 20 февраля, в день Льва Катанского, то есть в именины Сенатора, обед был у нас, а 24 июня, то есть в Иванов день, — у Сенатора, что, сверх морального примера братской любви, избавляло того и другого от гораздо большего обеда у себя.
Затем были разные habitues; тут являлся. ex officio[83] Карл Иванович Зонненберг, который, хвативши дома пе(110)ред самым обедом рюмку водки и закусивши ревельской килькой, отказывался от крошечной рюмочки какой-то особенно настоянной водки; иногда приезжал последний французский учитель мой, старик-скряга, с дерзкой рожей в сплетник. Monsieur Thirie так часто ошибался, наливая вино в стакан, вместо пива, и выпивая его в извинение, что отец мой впоследствии говорил ему:
— С правой стороны вашей стоит vin de Graves, вы опять не ошибитесь, — и Тирье, пихая огромную щепотку табаку в широкий и вздернутый в одну сторону нос, сыпал табак на тарелку.
В числе этих посетителей одно лицо было в высшей степени комическое. Небольшой лысенький старичок, постоянно одетый в узенький и короткий фрак и в жилет, оканчивавшийся там, где нынче жилет собственно начинается, с тоненькой тросточкой, он представлял всей своей фигурой двадцать лет назад, в 1830–1810 год, а в 1840–1820 год. Димитрий Иванович Пименов, статский советник flo чину, был один из начальников Шереметевского странноприимного дома и притом занимался литературой. Скупо Наделенный природой и воспитанный на сентиментальных фразах Карамзина, на Мармонтеле и Мариво, Пименов Ног стать средним братом между Шаликовым и В. Панаевым. Вольтер этой почтенной фаланги был начальник тайной полиции при Александре — Яков Иванович де-Санглен; ее молодой человек, подававший надежды, — Пимен Арапов. Все это примыкало к общему патриарху Ивану Ивановичу Дмитриеву; у него соперников не было, а был Василий Львович Пушкин. Пименов всякий вторник являлся к «ветхому деньми» Дмитриеву, в его дом на Садовой, рассуждать о красотах стиля и о испорченности нового языка. Димитрий Иванович сам искусился на скользком поприще отечественной словесности; сначала он издал «Мысли герцога де Ларошфуко», потом трактат «О женской красоте и прелести». В этом трактате, которого я не брал в руки с шестнадцатилетнего возраста, я помню только длинные сравнения в том роде, как Плутарх сравнивает героев — блондинок с черноволосыми. «Хотя блондинка — то, то и то, но черноволосая женщина зато-то, то и то…» Главная особенность Пименова состояла не в том, что он издавал когда-то книжки, никогда никем не читанные, а в том, что если он начинал хохотать, то он не мог остановиться, и смех (111) у него вырастал в припадки коклюша, со взрывами и глухими раскатами. Он знал это и потому, предчувствуя что-нибудь смешное, брал мало-помалу свои меры: вынимал носовой платок, смотрел на часы, застегивал фрак, закрывал обеими руками лицо и, когда наступал кризис — вставал, оборачивался к стене, упирался в нее и мучился полчаса и больше, потом, усталый от пароксизма, красный, обтирая пот с плешивой головы, он садился, но еще долго потом его схватывало.
Разумеется, мой отец не ставил его ни в грош, он был тих, добр, неловок, литератор и бедный человек, — стало, по всем условиям стоял за цензом; но его судорожную смешливость он очень хорошо заметил. В силу чего он заставлял его смеяться до того, что все остальные начинали, под его влиянием, тоже как-то неестественно хохотать. Виновник глумления, немного улыбаясь, глядел тогда на нас, как человек смотрит на возню щенят.
Иногда мой отец делал с несчастным ценителем женской красоты и прелести ужасные вещи.
— Инженер-полковник такой-то, — докладывал человек.
— Проси, — говорил мой отец и, обращаясь к Пименову, прибавлял — Димитрий Иванович, пожалуйста, будьте осторожны при нем; у него несчастный тик, когда он говорит, как-то странно заикается, точно будто у него хроническая отрыжка. — При этом он представлял совершенно верно полковника. — Я знаю, вы человек смешливый, пожалуйста, воздержитесь.
Этого было довольно. По второму слову инженера Пименов вынимал платок, делал зонтик из руки и, наконец, вскакивал.
Инженер смотрел с изумлением, а отец мой говорил мне преспокойно:
— Что это с Димитрием Ивановичем? II est malade,[84] это — спазмы; вели поскорее подать стакан холодной воды да принеси одеколонь.
Пименов хватал в подобных случаях шляпу и хохотал до Арбатских ворот, останавливаясь на перекрестках и опираясь на фонарные столбы.