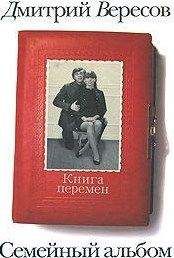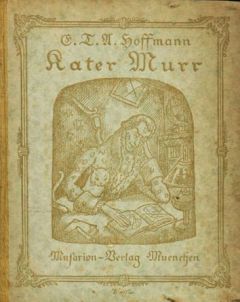Вадим не жаждал ничьего общества и рассчитывал, что сейчас в излюбленной кафешке никого из знакомцев не будет: завсегдатаи сдавали сессию, подтягивали хвосты, не до Бахуса им было нынче. И Вадим не ошибся, никого своих не было за столиками. Только двое мальчишек среднего школьного возраста, по виду типичных прогульщиков, считали совместную мелочь, чтобы хватило на две порции мороженого с орешками и с сиропом. Вадим уселся в уголке спиной ко всему на свете, взяв стакан персикового сока с мякотью, потому что другого не было, и еще один стакан — пустой. Под столом он содрал ногтями «бескозырку» с принесенной с собою «маленькой» («Херса» не подходила для заливания горя, это был праздничный напиток) и только-только собрался соорудить коктейль, как над головой, словно с небес, раздалось:
— Что это тебе, Лунин, приспичило нажираться среди бела дня?
Вадим вздрогнул, вывернул шею, чтобы посмотреть через плечо и вверх, и опознал возвышавшегося над ним Котю Клювова, комсомольского босса. Котя в открытую размахивал бутылкой «Херсы», но, слава богу, был один. Он, не обращая внимания на ненавидяще кривившийся рот и яростно дрожащие ноздри Вадима, устроился рядом, разлил его сок по двум стаканам и долил до краев Вадимовой же водкой.
— Что отмечаем, Вадька? — светским тоном осведомился Котя. — По ком сии поминки?
Вадим не ответил и отвернулся, сжимая стакан и борясь с желанием разбить толстое граненое стекло о такую же по-комсомольски граненую и поблескивающую от самодовольства морду Клювова, входившего в состав дурацкой, долбаной, паршивой, придурочной «идеологической комиссии». Но устраивать драки Вадим не привык, поэтому осушил стакан, стукнул донышком о пластиковую поверхность столика, отбив острый кусочек стекла, и продолжал молчать, тогда как Клювов явно жаждал общения и нагло, по-купечески наполнил стаканы «Херсой». Получилось некрасиво и неаппетитно: остатки серо-желтой персиковой мякоти плавали, как комочки протоплазмы в «первичном бульоне», поганя своим видом темно-золотое благородство «Херсы».
Вадим выпил, содрогаясь от отвращения, утешая себя тем, что если его стошнит, то наверняка прямо на вельветовые вранглеровские джинсы Клювова. Питие, однако, развязало Вадиму язык, по крайней мере, для ругани.
— Мразь. Сволочь и мразь, — настолько четко, насколько позволял заплетающийся язык, бросил он в плакатную рожу Клювова.
— Это кто еще? — поинтересовался тот, оглядываясь с размашистой пьяной амплитудой в поисках сволочи и мрази, явно не поняв, что сволочью и мразью обозвали именно его.
— Ты, — объяснил Вадим. — Все вы.
— Почему? — безмерно удивился захорошевший Котя. — Я что тебе сделал?
— Не знаешь, сволочь? — набычился Вадим. — Венгрию мне кто зарубил? Не знаешь? Не ты, скажешь?
— Вадимыч! — возмутился Клювов — Не я! И не Тонька Козлова, и не Пава Брыкшин! Это все пакость райкомовская, грымза Баранова. Личными делами трясла, анкетами трясла, даже наш партайгеноссе в штаны наложил, как узнал, кого в Первом меде пригрели. Кого только не пригрели! Что ни анкета, то… что-нибудь, что ни личное дело, то… тоже что-нибудь. Ух, чего я только не узнал! У Ленки Серовой, например. Ну, ладно. Но это не я, Вадимыч! Вот те крест!
— Я не понимаю, почему, за что? — в пьяной тоске спросил Вадим у пластмассового стаканчика с нарезанными бумажками вместо салфеток. — Верой и правдой. Я же с первого курса за трудовой семестр отвечал! Ради чего?! Чтобы мордой об стол? Сука… бескорыстная! Она, интересно, в райкоме бескорыстно дырки в столе ковыряет или ей за это зарплату и премию дают плюс талоны на обед?
— Вадимыч, ты созрел, — уверенно поставил диагноз Клювов, — ты бредишь.
— Все бред, — кивнул Вадим и ухватился за столик, чтобы тот не смел убегать. Сказались питие натощак и отсутствие должной привычки. — И все же, Клюв, почему и за что? Ты же должен знать, раз при-суссс… это… при-сут-ссс… Ну, был там.
— Угу, — почесал переносицу Клювов. — Нет, я не понимаю, Вадька, что тебя удивляет? — вдруг завелся он. — Инку в общаге трахал на виду у комиссии, женишок? Это как называется, тебе объясняли? Объясняли. Могу повторить: аморальное поведение. И это еще цветочки, бутончики даже, потому что, в конце концов, как говорит наш партайгеноссе, дело-то молодое, потому что с девочкой, а не с мальчиком, потому что по взаимному согласию, а не изнасилование.
— Клюв, — возмутился Вадим, слегка трезвея, — что ты несешь?
— А что? Я в этой долбаной идеологической комиссии такого наслушался и навидался документально зафиксированного, что ты у нас, Вадимчик, просто ангел с крылышками на фоне некоторых.
— Тогда опять не понимаю, почему?
— Потому. Не пондравился. И стали цепляться. Посещение неподходящих адресов, общение с неподходящей публикой. Родственные связи.
— Какие еще родственные связи? Что за чушь?
— Такие. Ты у нас по рождению кто? Михельсон-Мусорский, Вадим Делеорович, а не Лунин, Вадим Михайлович. Не знал, что ли?
— Да знал! И не скрывал никогда! Что в этом такого? Дед — Михельсон — академик-физик, немец наполовину, в честь него братишку назвали Францем. А отец — Делеор Мусорский — известный в свое время тенор, заслуженный артист, в Кировском пел. Позднее мать замуж вышла за отца, в смысле, за моего приемного отца, и я его всю жизнь с пяти лет настоящим отцом почитаю. И, между прочим, он сейчас в Ливии, и никто его репрессированной матерью из богатого купечества и расстрелянным в тридцать седьмом году отцом не попрекает.
— Вадька, заткнись, — покачал пальцем Клювов, — мне на это наплевать, я этого не слышал, ты этого не говорил, и, вообще, не те сейчас годы, чтобы происхождением попрекать. Но! Когда зачем-то надо. Понимаешь?
— Нет, — помотал головой Вадим, — чего надо-то? Чего им еще надо? Комсомолец, отличник, общественник, кандидат в члены. Не понимаю я.
— И я, Вадька, если честно, не понимаю, — перешел на шепот пьяненький Клювов. — Такой грешник, как ты, — праведник, по сравнению с некоторыми грешниками, которые таки едут. Значит, что-то тут такое, о чем нам знать не положено. А все остальное — фигня, повод, формальность, если хочешь. И мой тебе добрый совет: сиди ровно, не высовывай рыло и делай вид, что все так и надо, все путем, что ты счастлив и доволен. Глядишь, и унюхаешь, откуда ветер дует. Но, по-моему, лучше бы не надо… нюхать. Стошнит еще. «Херсы», а?
— Меня и так сейчас стошнит, — сдавленно сообщил Вадим. — Береги свои штаны фирменные. А в честь чего «Херса»-то?
— Так ведь я-то в Венгрию еду! — удивился вопросу Клювов.
* * *
Аврора Францевна, за две недели похудевшая и посеревшая, встретила любимого пасынка словами:
— Олежка, ты меня в могилу чуть не свел. Я тебя и спрашивать боюсь.
— Мама, — сказал Олег, приобняв Аврору Францевну, — у тебя виски седые.
— Что ты?! Я и не заметила, вот беда. И хожу в таком виде! Черт тебя побери, Олежка! — расстроилась Аврора Францевна.
— Ну, прости, — выдавил Олег непривычные слова.
— Ничего себе! — удивилась Аврора Францевна. — В жизни не слышала, чтобы ты прощения просил.
— Я просил, только не словами, — почесал голову Олег. Волосы росли и щекотали кожу, пробиваясь наружу.
— Да, не словами. И никогда не понять было, то ли ты извиняешься, то ли снисходишь к якобы виноватым перед тобой. Мы с папой и чувствовали себя виноватыми в твоих грехах. Пренеприятное ощущение. А чем это от тебя несет?
— Лучше я не буду говорить, чем. Лучше я в ванную пойду. И я бы поел, мама.
— Да-да, в ванную. Олежка, у меня двести вопросов на языке. Пойми меня правильно. Ты взрослый, конечно, но. Почему ты так коротко подстрижен?
— Я понимаю, что у тебя вопросы. Но я не мог дать тебе знать. Я, мама, подрался, и меня загребли на пятнадцать суток. В общем, все позади. Я есть хочу, и мне отмыться бы.
— Убью Вадьку, — сказала Аврора Францевна. — Мальчики, никогда не… как сейчас говорят? Никогда не пудрите мне мозги! Не вешайте лапшу мне на уши! Какой смысл? Сначала я трясусь и помираю от переживаний, а потом, узнав правду, чувствую себя полной дурой, жалкой и обманутой. Я чувствую, что меня в грош не ставят. Мать я вам или нет?!
Она заплакала, вцепившись дрожащими пальцами в свитер Олега, уткнулась носом в шерсть, пропитанную отвратительными запахами камеры, мертвечины, остывшего табачного дыма и… посторонней женщины. Женский запах показался смутно знакомым, но Авроре было не до проверки своих ощущений, тем более что нос заложило от рыданий, и запахи перестали раздражать обоняние.
— Я стала слаба и слезлива, — бормотала Аврора. — Столько сырости! Целыми днями слезы сами льются. Даже Франик заметил. Я ему говорю: это от лука. Ем лук, чтобы не простудиться. А он мне говорит: а я думал, что не от лука, а от Олега. А я говорю: при чем тут Олег? У Олега свои важные дела, он взрослый уже. А сама реву, рева-корова. А Франик, знаешь, что сказал? Нет, ты знаешь, что он сказал?! Всего-то и делов у Олега, что старую крашеную б… трахать. Так что успокойся, мамочка, не переживай! Она противная, у нее помада вечно размазана, она скоро Олежке надоест, и он вернется. Он другую найдет, красивую и молодую, такую, как Вадькина Инка. Вот что мне твой младший брат сказал. И кому верить? Тебе, Вадьке или Франику, семейному оракулу?