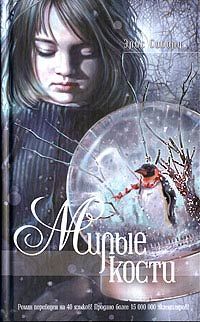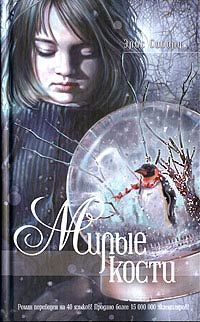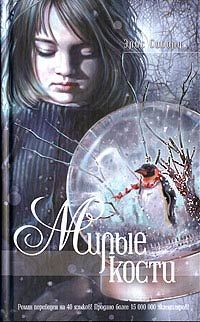С того самого дня, когда он побывал у Руаны Сингх и, вернувшись домой, застал у нас Лена Фэнермена, его не оставляло ощущение, что моя мама возлагает слишком большие надежды на следственную бригаду. Стоило моему отцу заикнуться о версиях полиции — точнее, об отсутствии таковых, — мама тут же затыкала ему рот. «Лен говорит, это пустое». Или: «Я считаю, что расследованием должны заниматься специалисты».
Почему, спрашивал себя мой отец, люди слепо доверяют копам? Почему не довериться своей интуиции? Он знал, что это дело рук мистера Гарви. Но Руана Подчеркнула: «утвердившись в своей правоте». Знание, глубинное знание, которое носил в себе мой отец, никак не могло, с точки зрения буквы закона, служить надежным доказательством.
Я выросла в том же доме, где родилась. Как и дом мистера Гарви, он представлял собой простую коробку, поэтому меня переполняла жгучая, бессмысленная зависть, когда я ходила в гости. Я спала и видела лоджии, круглые своды, балконы, мансарды со скошенными потолками. Мне представлялись раскидистые деревья в саду — выше и крепче хозяев, маленькие комнатки под лестницами, густые живые изгороди с пустотами от сухих веток, где можно спрятаться. На небесах в моем распоряжении оказались веранды и винтовые лестницы, подоконники с коваными железными оградками и даже колокольня, отбивавшая часы.
Планировку дома мистера Гарви я знала как свои пять пальцев. Сначала на полу в гараже оставалось мое теплое пятно, которое вскоре остыло. Он принес в дом мою кровь на собственной одежде и коже. Знала я и ванную. Сравнивала ее с ванной комнатой в нашем доме, которую мама постаралась отделать с учетом рождения позднего ребенка, Бакли: на розовых стенах появились нарисованные по трафарету изображения боевых кораблей. У мистера Гарви в кухне и ванной царил образцовый порядок. Вся сантехника — в желтоватых тонах, кафельные плитки на полу — зеленые. Отопление его не волновало. Наверху, там, где в нашем доме располагались детские, у него, по сути дела, было пусто. Иногда он опускался в жесткое кресло с прямой спинкой, смотрел из окна вдаль, за школьную крышу, и слушал, как на поле репетирует духовой оркестр, но большую часть времени все же проводил внизу: либо на кухне, где мастерил домики, либо в гостиной, где слушал радио или, когда подступала похоть, углублялся в чертежи землянок или шатров.
Несколько месяцев никто его не беспокоил расспросами обо мне. Лишь изредка возле дома притормаживала полицейская машина. У него хватало ума придерживаться обычного распорядка. Если раньше он в определенное время спускался в гараж или подходил почтовому ящику, то и теперь вел себя точно так же.
В доме было несколько будильников, которые ставились на разное время. Один подсказывал, когда раскрывать шторы, другой — когда задергивать. По звонку в комнатах включался и выключался свет. Когда дверь стучались дети, которые торговали вразнос шоколадками, чтобы собрать деньги для школьных Мероприятий, или предлагали подписку на «Ивнинг Бюллетин», он разговаривал с ними приветливо, но исключительно по делу, ничем себя не выдавая.
Он вел счет сувенирам: это его успокаивало. Сувениры были незамысловатыми. Обручальное кольцо, запечатанный конверт с письмом, кожаный каблучок, очки, старательная резинка с изображением героев мультика, флакончик духов, пластмассовый браслет, моя подвеска в виде замкового камня — эмблемы Пенсильвании и, конечно, янтарный кулон его матери. По ночам, когда можно было не беспокоиться, что в дверь постучит почтальон или кто-нибудь из соседей, он раскладывал сувениры на столе. Перебирал их, как четки. У него из памяти частично выветрились стоявшие за ними имена. Зато моя память сохранила каждое имя. Каблук туфельки напоминал о девочке Клэр, родом из Натли, штат Нью-Джерси, которую он заманил в кузов фургона. (Остается утешаться тем, что я бы ни за что не полезла к нему в фургон. Остается утешаться тем, что я поплатилась за свою любознательность: хотела понять, как укреплена землянка.) Он оторвал каблук, прежде чем отпустить эту девочку. И не причинил ей зла. Просто заманил в кузов фургона и снял с нее туфельки. Она разревелась, и этот плач сверлил его, точно бурав. Он уговаривал ее замолчать и отправляться восвояси, выпрыгнуть из фургона босиком, и приказал никому ничего не рассказывать, а туфли оставил себе. Но не тут-то было. Девчонка не уходила. Он начал отдирать каблук, поддевая его перочинным ножом, и в это время кто-то забарабанил в кузов. Послышались мужские голоса и один женский; кто-то пригрозил вызвать полицию. Он открыл дверь.
— Ты что это с ребенком делаешь, а? — заорал один из мужчин.
Второй подхватил девочку, которая, заходясь плачем, вывалилась ему на руки.
— Чиню туфельку.
Девочка билась в истерике. Мистер Гарви сохранял присутствие духа. Но Клэр успела заметить то, что впоследствии увидела я, — его угрожающе близкий взгляд, его невыразимое желание, поддавшись которому она бы канула в вечность наравне со мной.
Случайные свидетели пришли в замешательство — откуда им было знать, что видели мы с Клэр. А мистер Гарви торопливо сунул кому-то в руки пару детских туфелек и распрощался. Каблук остался у него. Мистер Гарви пристрастился потирать этот плоский кожаный каблучок большим и указательным пальцами — лучшее успокоительное средство.
Я знала, где у нас в доме самое темное место. Как-то раз, похвалялась я перед Клариссой, мне довелось просидеть там целые сутки (на самом деле минут сорок пять). Это был люк в подвале. Если посветить туда фонариком, луч выхватывал какие-то трубы и вековые залежи пыли. Больше ничего. Даже насекомых не было. Моя мама, как в свое время ее мама, опрыскивала дом всякой химией, чтобы не завелись муравьи. Когда будильник подсказывал задернуть шторы, а вслед за тем другой будильник призывал выключить лампы, ибо в маленьких городах ляда ложатся спеть рано, мистер Гарви шел в подвал, откуда не пробивался ни один лучик света. Иначе соседи стали бы указывать пальцами. К моменту моего убийства ему порядком надоело спускаться в люк, но в подвале, где стояло жуткое кресло, он чувствовал себя вполне комфортно, лицом к пробитому в середине стены темному лазу, уходящему прямо под доски кухонного пола. Случалось, мистер Гарви задремывал прямо в кресле; так было в тот раз, когда мой отец проходил мимо зеленого дома в четыре сорок утра.
Джо Эллис был настоящим садистом. Когда мы с Линдси занимались плаванием, он вечно щипался под водой. Из-за него мы даже отказывались от приглашений на водные праздники. У него была дворняжка, которую он всюду таскал за собой, как она ни упиралась своими короткими лапами. Собачонка не могла бегать с ним наравне, но Эллису было наплевать. Он ее нещадно лупцевал, а то и раскручивал за хвост. один прекрасный день собака исчезла, а следом за ней и кошка, над которой Эллис, не таясь, измывался еще почище. После этого во всей округе начали пропадать домашние животные.
Каково же было мое удивление, когда я вслед за мистером Гарви заглянула к нему в люк и увидела там все это зверье, пропавшее за год с лишним. Садист Эллис уехал поступать в военное училище, и соседи облегченно вздохнули. По утрам они отпускали собак и кошек со двора, а вечером спокойно ждали возвращения своих любимцев. Все стало на свои места, иных доказательств его вины не требовалось. Никто и представить не мог, что главные зверства творятся под крышей зеленого дома. Сваленные в люк трупы кошек и собак засыпались негашеной известью, чтобы от них поскорее остались одни кости. Пересчитывая скелеты, домовладелец забывал про письмо в конверте, про обручальное кольцо и флакончик духов, но самое главное — он из последних сил противился неутолимому желанию: сидя на жестком стуле, в темноте, под самой крышей, глазеть на школьное здание и представлять тело каждой девочки, чей голос выкрикивал приветствия футбольной команде. С этим могло сравниться только наблюдение за остановкой школьного автобуса, до которой и вовсе было рукой подать. А однажды он долго следил за Линдси, единственной девочкой, которая в наступающих сумерках бегала кросс вместе с мальчишками-футболистами.
У меня долго не укладывалось в голове, что он каждый раз пытался себя сдерживать. Лишая жизни бессловесных тварей, он удерживал себя от убийства детей.
Близился август. Лен решил установить границы разумного — как для собственной пользы, так и для пользы моего отца. Отец постоянно звонил в участок и досаждал полицейским советами. Это не способствовало розыскам и только настраивало всех против него.
Последней каплей стал звонок в начале июля. Джек Сэлмон подробно описал диспетчеру, как его собака во время утренней прогулки остановилась у дома мистера Гарви и подняла вой. Сэлмон тянул за поводок, говорилось в рапорте, но собака упиралась и выла. В участке их тут же окрестили «мистер Лосось и баскервильский пес».