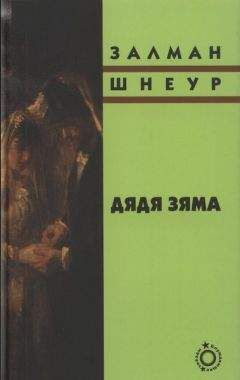Зяма увидел, какой товар произвел одаренный зятек, и возмутился. Он велел Михле забрать у Мейлехке все горшки и больше не давать ему ни мисок, ни медной посуды для такого замечательного производства. А Мейлехке он предупредил, что больше денег ему не даст. Разве только найдутся дураки, которые купят то, что уже произведено.
С трудом и мучениями уговорили некоторых лавочников взять несколько пачек товара. И то не за наличные, а в кредит: пусть торговцы потом выплачивают из того, что выручат. Но повезло только с синькой и с ваксой. Зеркальца никто не хотел и в руки брать. Даже мужику из дальней деревеньки трудно было всучить такое зеркальце. И в Зямином доме стали раздавать эти зеркальца, как гнилые яблоки: подарили Фёкле-водоноске, Бендету-трубочисту, младшему шамесу, прислуге, жениху прислуги, бедным детям, которые приходили «есть дни»… Всякий, у кого были руки и кто хоть немного жалел Зяминого зятька, брал зеркальце. Но не все забирали зеркала домой. В основном эти доброхоты доносили их без всякого зазрения совести только до большой канавы. Шкловская канава под мостиком стала кладбищем для кривых зеркал Мейлехке.
А в лавочках, и в мастерских, и у шапочников на рынке сразу появилась новая насмешливая песенка. Говорят, что ее сочинил Хаце-хромой, цишилист[185], который смеется и над Богом, и над царем, а уж над богачами — и подавно, а компашка шапочников разнесла ее своими «кошерными» устами по всему рынку. Швейные машинки шьют, а злые языки поют им в такт:
— Зямин зять, такой дурак,
Влез с кувшином на чердак,
Перемазал все горшки,
Чтобы делать порошки.
От его кривых зеркал,
Все хохочут, стар и мал…
Когда эта песенка дошла до ушей Мейлехке Пика, она переполнила чашу его терпения. Он сам стащил с чердака все оставшиеся зеркала, разбил их собственными руками и выбросил осколки в замерзшую помойную яму за Зяминым домом, к великому страху слетевшихся на зиму черных ворон. «Братскую могилу» забракованного товара он завалил большими комьями снега.
Это немного остудило его сердце. Но недолго длилось сладкое чувство мести самому себе… Спустя несколько дней после этих похорон стали возвращаться пачки с синькой и ваксой, которые были розданы лавочникам. Товар возвращали с претензиями и с криком: что же это такое, хозяйки испортили белье! Обыватели намазали ваксой ботинки и сапоги и не смогли их оттереть!.. Надо идти в раввинский суд. И они пойдут-таки в раввинский суд!
А из Оршы, куда приблудилось несколько пачек товара, пришло письмо от тамошнего лавочника с очень вежливым советом: пусть производитель намажет эту ваксу себе на хлеб, а синьку заварит в чайнике, так всем будет намного лучше…
На этом карьера Мейлехке Пика в качестве химика и промышленника закончилась.
Как стать человеком
Пер. М. Рольникайте и В. Дымшиц
На шоссейной дороге из Орши в Шклов есть две станции: Александрия[186] и Копысь[187]. Чтобы никто нас не понял превратно, мы должны сразу признаться, что первая остановка — это, прямо скажем, не Александрия Египетская. Люди, повидавшие мир, говорят, что они даже не похожи. Александрия Египетская, убеждают опытные люди, — большой портовый город с мечетями и пальмами, а построил его Александр Македонский, когда отправился завоевывать мир. А Александрия, которая находится на пути из Орши в Шклов, состоит всего лишь из нескольких бедных хат, принадлежащих белорусским крестьянам, да большого еврейского шинка, стоящего посреди двора в окружении сараев и конюшен. Вместо пальм там растут тоненькие березки. И когда мужику или еврею, не рядом будь помянут, хочется помолиться в общине, он едет либо в Оршу, либо в Копысь — и молится там. Александр Македонский со своим войском здесь наверняка никогда не проходил. Зато, было дело, русский царь Александр I, одетый в роскошную пелерину, проезжал здесь в своей царской карете, запряженной тремя белыми конями цугом. Это случилось в 1811 году, когда царь в преддверии войны с французским императором ездил осматривать укрепления и воодушевлять народ. И как раз здесь, неподалеку от этой кучки домишек, у царской кареты сломалась ось. Царя со всеми почестями провели в еврейский шинок и, пока ремонтировали карету, в шинке его, говорят, потчевали свежей рыбой по-еврейски и рубленой печенкой. Перед отъездом царь велел дать еврею-шинкарю серебряный екатерининский рубль величиной с американский доллар. Потому что коли русский царь доволен, то рубль для него — не деньги… И этот серебряный рубль переходит вместе с шинком по наследству от отца к сыну вот уже четыре поколения. Его, этот большой рубль, берегут как зеницу ока. Весь год он лежит завернутый в холстину в серебряной шкатулке для эсрега[188], а в Сукес его достают вместе с другими женскими украшениями. Сама же деревенька вместе со своим еврейским шинком в память о том великом событии получила название Александрия. Так по сей день и называется.
Здесь останавливаются извозчики и дают отдых лошадям, а сами зимой согреваются стаканчиком водки, а летом освежаются бутылкой пива. И их шудаки, шкловские купцы и лавочники, подкрепляются пирожками или рубленой печенкой, для чего не надо «мыть руки»[189]… Через Александрию, особенно зимой, когда Днепр замерзает и пароход не ходит, везут товары: те, которые прибыли в Оршу поездом — в Копысь и Шклов, те, которые отправляют шкловские «фабриканты» — в Нижний и Москву. Дядю Зяму и его ящики с пушниной здесь хорошо знают. Он часто проезжает через Александрию: то едет получать присланные по железной дороге сырые шкурки, то отправляет свои красиво выделанные меховые пластины в российскую глубинку. Реб Шахне, теперешний хозяин постоялого двора и шинка, — добрый знакомый дяди Зямы. Его жена Хая не знает, куда и посадить такого дорогого гостя. Предлагает ему самые лучшие зимние шкварки[190]. Лучшие гусиные желудки тоже достаются дяде Зяме.
Сам шинкарь, реб Шахне, хоть и ученый человек и денег у него куры не клюют, а борода и высокий лоб у него, как у раввина, однако же несчастен. У него, бедняги, отнялись ноги. Это горе случилось с ним уже много лет назад. Он тогда в санях возвращался с обрезания. На душе было весело, в голове шумело, потому что на празднике он изрядно принял. И реб Шахне со своей лошадкой заблудился в дремучих лесах между Оршей и Александрией. Поднялась ужасная метель и замела все дороги.
Назавтра его нашли в санях замерзшего до полусмерти. Целый день оттирали снегом и водкой, пока не привели в чувство. Но с тех пор он сделался недужен ногами. Сперва они опухали, потом, ни про кого не будь помянуто, стали сохнуть, сохнуть — и так, пока совсем не отказали. Остался реб Шахне сидеть укутанным в одеяло калекой в большом кресле на колесиках. Зимой и летом он сидит в шинке у буфетной стойки, пока его Хая, настоящая эйшес хайл, занята хозяйством, постояльцами и извозчиками. Особой пользы жене от него нет. Потому что там, где нужно дотянуться до чего-нибудь на расстоянии больше вытянутой руки, реб Шахне беспомощен и сразу же зовет супругу, отрывая ее от работы своим басовитым ворчанием… Со временем у реб Шахне выработался хрипловатый, нудный и пронзительный голос, который разносится по всему дому и двору, и буравит, и нудит: «Хая, Хая!» И опять: «Хая! Хая!»
Эти постоянные оклики совсем не по душе Хае-шинкарке. Она повсюду слышит хриплый голос мужа. У нее уже от этого голоса руки-ноги трясутся. Посоветовавшись с домашним меламедом, который занимается с ее единственным сыном Лейзерке и живет у нее на хлебах, она решила дать реб Шахне колокольчик. Когда жена ему понадобится, он позвонит. И пусть больше никого не зовет через весь дом. Потому что от этих криков ни она, Хая, не может ничего делать, ни меламед не может заниматься с мальчиком. Купили реб Шахне старый медный колокольчик с гвоздиком вместо язычка, чтобы не слишком громко звенел, и наказали, чтобы он больше никого не звал. Хватит уже!
И реб Шахне остался сидеть с медным колокольчиком вместо голоса, скучая и сердясь в тишине. Мало того, что Бог отнял у него ноги, так еще люди, свои же домашние, отняли у него язык… И он стал изливать свою душевную горечь с помощью колокольчика. Вместо того чтобы позвать: «Хая, Хая!», он то и дело звонил в колокольчик. Надо, не надо — звонит. Колокольчик стал посредником, переводчиком между ним и домашними. Реб Шахне с упорством калеки, которому больше нечего делать, звонил как на пожар, брякал колокольчиком как церковь в христианский праздник, не рядом будь помянут. Не помогали ни добрые слова, ни злые.
— Я не могу целый день молчать! — заявлял реб Шахне.
Переубедить его было невозможно.