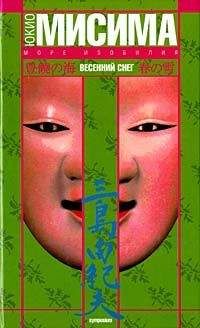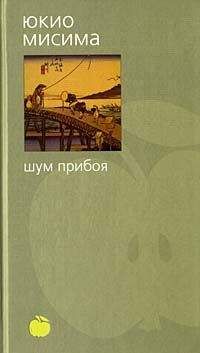— Да. Ведь это так понятно.
Итак, все оказалось печальной политической аллегорией, столь привлекательной для молодежи.
— Придет время, когда и ты это заметишь, — наклоняясь над столом, прошептал Фурудзава, хотя понижать голос не было необходимости — вокруг никого не было, и Тору вдруг ощутил уже забытый запах из его рта.
Как это он забыл? Во время занятий по родному языку, когда Фурудзава наклонялся к нему, Тору случалось чувствовал этот запах, но не испытывал особенного отвращения, однако сегодня запах этот вызвал явную антипатию.
Во всей этой истории о кошке и мышке, пусть даже Фурудзава рассказывал ее без всякого умысла, Тору что-то раздражало. Но ненавидеть Фурудзаву только по этой причине было как-то неприятно, ему казалось, что это слишком мелко. Для нелюбви, даже ненависти к Фурудзаве нужны более веские, более убедительные причины. Поэтому запах изо рта стал просто невыносим.
Фурудзава, ничего не заметив, продолжал говорить:
— Придет время, когда и ты это увидишь. Власть, отправной точкой для которой служит обман, невозможно поддерживать, заставляя обман бесконечно, словно микробы, размножаться. И с каждой атакой на нас обман становится все сильнее, его становится все больше, и в конце концов он проникает нам в душу и незаметно покрывает ее плесенью.
Очень скоро они вышли из кафе и съели в ближайшей лавочке лапшу — она показалось Тору куда вкуснее ужина с отцом за столом, сервированным множеством тарелок.
Щуря глаза от поднимавшегося от миски пара и втягивая ртом лапшу, Тору прикидывал, насколько опасной может быть их обоюдная симпатия. В их характерах определенно было что-то общее. Но Тору контролировал отзвук струны, задетой в его душе. Может статься, Фурудзава был шпионом отца, задумавшим эту проверку, чтобы что-то выведать у Тору. Тору знал, что после таких походов (конечно, это было требование отца) Фурудзава докладывал, куда они ходили, и просил возместить расходы.
Обратный путь лежал мимо парка Кораку, и Фурудзава опять стал тащить Тору на аттракцион с чашками. Тору понял, что тот сам хочет покататься, и согласился. Они купили билеты, вошли в парк, оказалось, что нужный им аттракцион находится тут же, рядом со входом. Других желающих не было, и, подождав немного, служащий неохотно включил механизм для них двоих.
Тору сел в зеленую чашку, Фурудзава специально выбрал находившуюся достаточно далеко чашку цвета персика. С внешней стороны на чашках был отпечатан простенький цветочный узор — и сами они напоминали о распродаже в какой-нибудь пригородной посудной лавке, где яркий свет фонарей с пустынной улицы тускло отражается в стекле или фарфоре.
Чашки завертелись, далекий Фурудзава пролетел совсем рядом — мелькнуло его смеющееся лицо, одной рукой он придерживал очки. Холод, подкравшийся через брюки к спине, когда Тору только сел в чашку, превратился теперь в студящий буран. Тору наобум крутанул руль — ему хотелось ничего не видеть, ничего не чувствовать. Мир превратился в туманные кольца Сатурна.
Наконец движение прекратилось, когда по инерции чашка, как буй на воде, еще крутилась, Тору попытался встать, но у него закружилась голова, и он снова сел. Подошедший Фурудзава со смехом спросил:
— Ну, что?
Тору, тоже смеясь, продолжал сидеть. Он был недоволен тем, что мир, в котором только что тонул его взгляд, опять навязчиво выставил свои грубые детали — облезлые афиши и световые щиты с рекламой кока-колы, похожие с изнанки на электронагревательный прибор.
На следующее утро за завтраком Тору сообщил:
— Вчера вечером Фурудзава водил меня в парк на аттракционы, мы катались в чашках. И ужинали вместе.
— Очень хорошо, — Хонда улыбнулся, обнажив вставные зубы. Этой улыбке следовало бы быть искусственной — под стать вставным зубам — и по-старчески равнодушной. Но Хонда, похоже, был действительно рад. Тору это не понравилось.
Тору, попав в этот дом, постигал удовольствия роскошной жизни — каждое утро на завтрак он ел заморский грейпфрут, вычерпывая ложечкой отделенную от кожуры при помощи специального ножа мякоть. Плоды были зрелые, блестящую в белых прожилках мякоть с чуть горьковатым вкусом буквально распирал сок, который пощипывал горячие, вялые со сна десны.
— У Фурудзавы пахнет изо рта. Во время занятий это немного мешает, — безмятежно улыбаясь, сказал Тору.
— Странно. Наверное, что-то с желудком. Ты, чистюля, все замечаешь, но придется потерпеть. Не так-то просто найти такого хорошего учителя.
— Да, конечно, — отступая, согласился Тору и доел грейпфрут. Поверхность поджаренного тоста из лучших сортов хлеба сияла в лучах ноябрьского солнца как выделанная кожа, Тору намазал тост маслом, проследил за тем, как оно растаяло, и откусил так, как учил Хонда. Прожевав кусок, он продолжил:
— Да, Фурудзава — хороший человек, но вы интересовались его взглядами?
На лице Хонды появился явный испуг, и это обрадовало Тору.
— Он о чем-то таком с тобой говорил?
— Нет, прямо не говорил, но у меня такое впечатление, что он из тех, кто участвовал в политических движениях и сейчас продолжает этим заниматься.
Хонда и сам доверял Фурудзаве, и был уверен, что тот нравится Тору, поэтому его поразило столь неожиданное заявление. К тому же, если с точки зрения Хонды это выглядело как стремление сына предупредить отца, то Фурудзава расценил бы это как явный донос. Тору с удовольствием наблюдал, как Хонда пытался справиться с этой этической проблемой.
Хонда для себя решил, что сейчас не стоит опрометчиво судить о вещах, как это было прежде, только с позиций «хорошо или плохо». По сравнению с тем, каким хотел его видеть в своих мечтах Хонда, Тору вел себя непорядочно, но его поведение вполне соответствовало тому, что Хонда в нем когда-то разглядел. По сути, Хонда оказался в ситуации, когда смог признаться себе в том, что открывшееся ему отвратительно.
Тору, чтобы разрядить обстановку и дать Хонде основание сделать замечание, специально стал вести себя по-детски неаккуратно: ронял крошки на колени, обкусывал тост с разных сторон, набивая им рот. Но Хонда не обратил на это внимания.
Этот знак доверия, которое Тору впервые явно выказал Хонде, имел оттенок низкого поступка, но Хонда не мог порицать Тору. С другой стороны, Хонда был в растерянности, ведь, поддавшись искушению объяснить Тору дух старой морали — в любом случае доносить не годится — он сразу испортит этот счастливый завтрак вдвоем.
Их пальцы, протянутые к сахарнице, случайно столкнулись. Сахарница, в которой под лучами утреннего солнца сияли мелкий обман и донос. Они одновременно протянули к ней руки — это было ощущение общей вины… Хонду неожиданно пронзила мысль о том, что впервые после официального усыновления между ними возникли чувства, свойственные отцу и сыну.
Тору был доволен не только тем, что сумел вывести отца из равновесия. Он подметил нерешительность отца — тот собирался сказать ему: «Ты должен больше доверять и уважать Фурудзаву, раз уж он твой учитель», но не сделал этого. Обнаружились и внутренняя растерянность отца, и какой-то скрытый изъян в деле воспитания. Тору испытал что-то похожее на радость освобожденного от нравоучений ребенка, который грызет, выплевывая шелуху, арбузные семечки. Хонда же наконец произнес:
— …Так, оставь эту проблему мне. А ты, как и раньше, серьезно занимайся с Фурудзавой. Не стоит обращать слишком много внимания на то, что не касается занятий. Отец обо всем позаботится… Первоочередная задача — подготовиться к экзаменам.
— Да, хорошо, — мило улыбнувшись, ответил Тору.
Весь этот день Хонда колебался. На следующий день он имел разговор со своим старым знакомым — сыскным агентом полицейского ведомства из отдела, ведавшего общественным спокойствием, и попросил того разузнать про Фурудзаву. Через несколько дней пришел ответ. Оказалось, что Фурудзава принадлежал к правой экстремистской группировке. И Хонда, придравшись к какому-то пустяку, тотчас же его уволил.
Тору иногда писал Кинуэ письма, Кинуэ присылала длинные ответы. Конверт приходилось вскрывать осторожно. Внутри всегда были засушенные цветы, соответствующие сезону. В письмах бывали и такие строчки: «Наступила зима, и в полях цветов нет, извини, но пришлось купить в магазине».
Завернутые в бумагу цветы напоминали мертвых бабочек. Пятнышки цветочной пыльцы, как пыльца с крылышек, оставляли ощущение того, что при жизни лепестки летали. После смерти крылышки и лепестки становятся очень похожи. Память о той, что своим полетом оживляла пустое небо, и память о цветущей неподвижности и покое.
Безжалостно разглаженный и засушенный лепесток с волнистыми краями, кроваво-красные волокна разорваны вдоль и поперек, высохнув, лепесток растянулся, словно коричневатая кожа индейцев — прочитав письмо, Тору узнал, что это лепесток красного тепличного тюльпана.