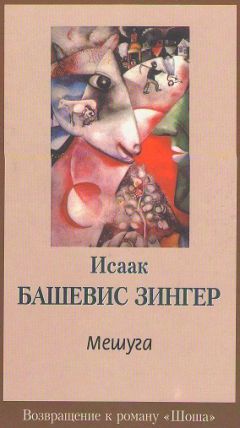Когда Гимпелю минуло тринадцать лет, Абба подпоясал его мешковиной и усадил за верстак. После Гимпеля подмастерьями стали Гецель, Трейтель, Годель и Фейвель. Хотя все они были его сыновьями и ели его хлеб, он исправно платил им жалованье. Двое младших, Липпе и Ханаан, еще ходили в первые классы хедера, но и они помогали забивать гвоздики. Абба и Песя гордились своими ребятами. Поутру шестеро работников собирались в кухне к завтраку, произносили молитву, мыли руки, после чего в воздухе слышались лишь звуки жующейся в шесть ртов затирухи и домашнего хлеба.
Абба любил посадить обоих младшеньких к себе на колени и спеть им старинную фрампольскую песенку:
Было у матери
Десять мальчишек.
Боже мой, Боже мой,
Десять мальчишек!
Первый — Авремеле.
Следом шел Береле.
Третий был Гимпеле,
После шел Довидл.
А за ним Гершеле…
И все ребята хором подхватывали:
Теперь, когда у него появились помощники, Абба мог шить больше обуви и больше зарабатывать. Жизнь во Фрамполе была дешевая, а так как крестьяне часто дарили ему то меру зерна, то катыш масла, то мешок картошки или горшок меда, то курицу или гуся, он мог немного сэкономить на еде. По мере того, как они крепче становились на ноги, Песя чаще заводила разговор о перестройке дома уж очень тесны были комнаты, да и потолок низок. Пол так и ходил под ногами ходуном. Со всех стен осыпалась штукатурка, а под ней кишмя кишели всякие личинки и жучки. Семейство жило в постоянном страхе, что на голову им рухнет потолок. Даже кошка не спасала от обилия мышей. Песя твердила, эту эту рухлядь надо попросту снести. а на ее месте построить дом побольше.
Абба не спешил сказать ей «нет». Он подумает. Но поразмыслив, он сказал, что предпочел бы ничего не менять. Прежде всего, он боялся сносить дом. ибо это могло навлечь несчастье. Во-вторых, он боялся сглаза люди завистливы и недоброжелательны. В-третьих, тяжело было расстаться с домом, в котором прожили и умерли его родители, весь род, многие поколения Шустеров. Он знал в доме все утлы и закоулки, каждую трещинку. Когда со стен осыпался один слой штукатурки, из-под него являлся другой, иного оттенка, а за другим прятался третий. Стены были как семейный альбом, где запечатлелись все успехи рода. Чердак был завален фамильными сокровищами — столами и стульями, верстаками и колодками, оселками и ножами, старыми платьями, кухонной утварью, матрасами, кадушками для солений, колыбелями. А рядом лежали мешки со старыми зачитанными молитвенниками, набитые так, что начали рассыпаться.
Абба любил жарким летним днем забраться на чердак. Пауки плели свои гигантские сети, и солнечный свет, просачиваясь сквозь трещины, радугой переливался на паутине. Все покоилось под толстым слоем пыли. Стоило прислушаться, как ухо выхватывало в тишине какой-то шепот, бормотанье. легкое царапанье, будто там орудовал таинственный невидимка, приговаривая неведомые слова. Абба был убежден, что дом находится под охраной его предков. По той же причине он любил и землю, на которой этот дом стоял. Травы тут были выше головы. Вес заросло, листья и ветви цеплялись за одежду, точно впивались в нее зубами или клешнями. В воздухе было тесно от бабочек и комаров, а на земле — от червяков и змей. Муравьи возводили в этих зарослях свои пирамиды, мыши-полевки рыли норы. В самой чаше росла слива, на Суккот она всегда приносила маленькие плоды, твердые как дерево, да и на вкус не лучше. Гигантские золотобрюхие мухи, пчелы и птицы кружили над этими джунглями. После каждого дождя на свет Божий вылезали поганки. Земля была заброшенной, но незримая десница хранила ее плодородие.
Когда Абба стоял здесь, вглядываясь в летнее небо и забываясь в созерцании облаков, похожих на рыбачьи лодки, на стада овец, на огромные щетки или на слонов, он ощущал присутствие Бога, Его промысел и Его милосердие. Он, казалось, наяву лицезрел Всемогущего, восседающего на престоле славы, и землю, служащую Ему подножием. Сатана был низвергнут, ангелы пели гимны. Книга Памяти, в которую были внесены все деяния человеческие, лежала открытой. Временами на закате Аббе даже чудилась огненная река в преисподней. Языки пламени метались по раскаленным углям; волна огня росла, затопляя берега. Если вслушаться, становились различимы приглушенные крики грешников и издевательский смех сатаны.
Нет, этого для Аббы Шустера было вполне достаточно. Ничего не надо менять. Пусть все останется таким, каким было оно всегда — вплоть до того момента, когда он покинет сей мир и будет похоронен на кладбище среди своих предков, обувавших сию святую общину и сохранивших по себе добрую славу не только в самом Фрамполе, но и по всей округе.
III Гимпель едет в Америку
Недаром пословица учит: человек предполагает, а Бог располагает.
Однажды, когда Абба корпел над каким-то башмаком, в мастерскую пошел старший сын Гимпель. Его веснушчатое лицо горело, рыжие взъерошенные полосы выбивались из-под кипы. Вместо того, чтобы сесть на свое место у верстака, он остановился подле отца, бросил на нею нерешительный взгляд и, наконец, произнес:
— Папа, мне надо тебе что-то сказать.
— Ну, я же тебе не мешаю. — заметил Абба.
— Папа, буквально прокричал он, — я собрался в Америку.
Абба отложил работу. Менее всего он ожидал услышать такое. Его брови взметнулись вверх.
— Что стряслось? Ты кого нибудь обокрал? Сцепился с кем-то?
— Нет, папа.
— Тогда с какой стати ты бежишь?
— У меня во Фрамполе нет никакого будущего.
— Почему же нет? У тебя есть ремесло. Бог даст, ты когда-нибудь женишься. У тебя впереди все.
— Меня воротит от местечек. Меня трясет от всех этих людей. Это же просто вонючее болото.
— Если никто не останется его осушать, — заметил Абба, — то болото навсегда останется болотом.
— Нет, папа, я не об этом.
— Тогда о чем же? — зло прокричал Абба.
Сын начал говорить, но Абба не мог уразуметь ни слова. Гимпель с такой яростью набросился на синагогу и все местечко, что Аббе почудилось, будто в малого вселился Бес: меламеды[69] бьют детей, женщины выплескивают помойные ведра прямо за двери, лавочники тупо слоняются по улочкам, уборных днем с огнем не сыщешь, и народ облегчается где попало — кто за баней, а кто и просто за углом, сея п округе грязь и заразу. Он поднял насмех и исцелителя Езриэля, и шадхена[70] Мехлеса, не обошел вниманием ни раввинский суд, ни служку при микве, ни прачку, ни смотрителя богадельни, ни общину ремесленников, ни благотворительные общества.
Поначалу Абба испугался, что парень сошел с ума, но чем дальше длились его обличения, тем яснее становилось, что он просто сбился с пути истинного. Неподалеку от Фрамполя, в Шебрешине, разглагольствовал некий безбожник по имени Яков Рейфман. Один его выученик, поноситель Израиля, часто навещал свою тетку во Фрамполе и в кругу местных лоботрясов нес почти то же самое. Аббе никогда и в голову не могло прийти, что его Гимпель окажется в такой компании.
— Ну, что скажешь, папа? — спросил Гимпель.
Абба еще раз взвесил все. Он знал, что спорить бесполезно, и вспомнил поговорку про паршивую овцу, которая все стадо портит.
— Что я могу поделать? — сказал Абба. — Хочешь ехать, езжай. Задерживать не стану.
И он вернулся к работе…
Но Песя так легко не сдалась. Она просила Гимпеля не уезжать в эдакую даль, плакала, умоляла не позорить семью. Она даже пошла на кладбище, к могилам предков — искать поддержки у мертвых. Но, в конце концов, она поняла, что Абба прав: спорить бесполезно. Лицо Гимпеля каменело, а в желтых глазах вспыхивал мрачный огонь. Он становился чужим в родном доме. Последнюю ночь он провел не дома, а с друзьями. Наутро вернулся, взял талес,[71] филактерии, пару рубашек, шерстяной плед, несколько крутых яиц — вот и все приготовления. Он подкопил на дорогу немного денег. Когда мать увидела, как он собирается отправиться в путь, она стала упрашивать, его взять, но крайней мере банку варенья, бутыль вишневого сока, простыни и подушку. Но Гимпель отказался наотрез. Он намеревался тайком перебраться в Германию, я для этого лучше было идти налегке. Короче говоря, он поцеловал мать, попрощался с братьями, с друзьями и ушел. Абба, не желая расставаться с сыном по-дурному, проводил его до поезда на станции Рейовец. Поезд подошел посреди ночи, шипя, свистя и грохоча. Фонари паровоза показались Аббе глазами жуткого дьявола, а от труб, извергавших столбы искр, от дыма и пара у него просто екнуло сердце. Подслеповатые окна лишь усиливали ощущение тьмы. Гимпель, сочно безумный, метался со своими пожитками, отец за ним. В последний момент мальчик поцеловал отцу руку, и Абба прокричал ему по мглу: