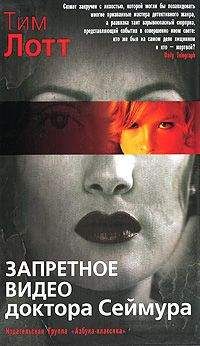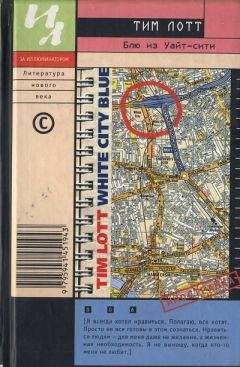— Нет.
— Он это знает. Он знает, что ты не рискнешь наказывать его за то, чего он, может быть, не совершал. Не следует грозить тем, что не сможешь выполнить. Или не захочешь.
— Потому что я слишком слаб?
— Даже не начинай. Не хочешь отдать мне Полли? Мне пора ее купать.
Доктор Сеймур целует Полли и передает ее матери. В этот момент в комнату входит Гай. Он строевым шагом подходит к отцу, швыряет мобильный телефон на кофейный столик и поворачивается, чтобы выйти. Саманта во все глаза глядит на телефон, потом на своего мужа, который позволяет себе тень улыбки. Доктор Сеймур оборачивается к Гаю — тот, сгорбленный, удаляется из комнаты. Доктор Сеймур говорит, и голос его звучит не так, как прежде на этой же записи, — сильнее, увереннее:
— Гай. Поди сюда.
Вместо того чтобы выскользнуть из комнаты, Гай в нерешительности останавливается. Затем медленно оборачивается.
— Присядь, пожалуйста, с нами.
Гай обращается к матери, явно ожидая от нее поддержки:
— Что на него нашло?
— Я думаю, тебе следует делать то, что говорит отец.
— Что? Мам!
Несколько секунд Гай таращится на нее с немой мольбой. Потом, осознав, что поддержки не предвидится, с угрюмым видом идет к стулу и садится рядом с отцом.
— Гай. Я задам тебе один вопрос и обещаю не сердиться, что бы ты ни ответил. Я просто хочу поговорить. Вот и все.
— Папа. Я отдал тебе мобильный. Разреши мне уйти в свою комнату, о’кей? Я не хочу говорить.
— Остановись. Остановись на минуту. Сиди спокойно. Послушай, что я пытаюсь тебе втолковать.
Гай длинно и тихо вздыхает, но остается на месте. Он бросает умоляющий взгляд на маму, но она отводит глаза.
— Вопрос следующий. Гай, ты вор?
— Что?
— Ты воруешь?
— Нет. Мам!
— Отец обеспокоен, Гай. У нас стали пропадать деньги. Ты же знаешь, из-за этого нам пришлось уволить Миранду.
— Вы сказали, что ей нужно было возвращаться в Новую Зеландию.
— Мы знали, что она тебе нравится. Мы хотели оградить тебя.
— Ты обманул меня, папа.
— Не совсем. Она действительно вернулась в Новую Зеландию. Но отчасти потому, что потеряла работу. Мы не говорили тебе всего, так как думали, что это может огорчить тебя. Мы думали только о тебе. Нам пришлось избавиться от Миранды, потому что мы решили, что она ворует. Значит, если это была не она, ее наказали без вины. А я знаю, что она-то тебе нравилась.
— О чем ты говоришь?
— Полагаю, ты знаешь, о чем.
Доктор Сеймур берет телефон и начинает его рассматривать.
— Так откуда это?
— Взял у друга. Послушай. Я же извинился.
— Вообще-то — нет.
— Не ори на меня.
— Я не ору.
— Я пошел к себе.
— Гай.
Доктор Сеймур кладет ему руку на плечо, но Гай стряхивает ее. Вдруг он резко сгибается и начинает рыдать. Совершенно неожиданно он приникает к отцу — движение это инфантильное, почти детское. Доктор Сеймур обнимает его. Следующие несколько слов произнесены сквозь слезы и так тихо, что почти не слышны:
— Прости меня.
— Ничего. Мы все это забудем, хорошо? Послушай, я люблю тебя, Гай.
— Папа…
— Правда. Я знаю, что тебя это смущает, но это правда. Я знаю, ты думаешь, будто я как-то особенно отношусь к твоей сестре, будто она моя любимица, но это не так. Никого на свете я так не люблю, как тебя.
— Папа! Прекрати.
— Хорошо. А ты прекратишь брать вещи без разрешения, да? Если тебе что-то нужно, просто подойди ко мне. Хорошо?
Гай кивает. Внезапно, как будто осознав, что он делает, Гай отстраняется. Наскоро вытирает глаза. Его всегдашнее угрюмое и недовольное выражение сменилось на растерянное, беспомощное. Смутившись потерей лица, он выходит из комнаты. Доктор Сеймур зовет его, но уже недостаточно убедительно:
— Гай!
Выражение лица Саманты Сеймур сложно передать. Здесь смешалось изумление, тихий ужас и восхищение мужем. Она говорит голосом тихим, чуть ли не покорным:
— И ты за ним не пойдешь?
— Нет.
— Мне казалось, ты собирался наказать его на неделю.
— Не хочу унижать его. Если он и воровал, теперь, я думаю, прекратит.
Она встает и садится рядом с ним.
— Почему ты так думаешь?
— Потому что он знает, что от меня не скроешься.
Она кладет руку на колено доктора Сеймура:
— Алекс.
— Да, Саманта?
— Я впечатлилась.
Она целует своего мужа взасос.
Видеодневник доктора Алекса Сеймура, выдержка вторая, четверг, 10 мая, тайм-код 23.53
Несколько секунд доктор Сеймур просто смотрит в камеру, как будто ему сложно подобрать слова. Затем начинает говорить.
Невероятный денек.
В мединституте я особо психологией не занимался. Я, как и большинство врачей, других насквозь вижу, а вот чтобы на себя посмотреть — это не очень. Но теперь постепенно проясняется, зачем я это делаю. Отчасти.
Я всегда бился, как об стену горох. И не потому, что я… душка и тюфяк, как они думают, а потому, что не хочу принимать неверные решения. Но решения мои всегда неверные, потому что слишком многое от меня скрыто.
И вот теперь у меня есть необходимая уверенность, возможно, впервые в жизни. Во всяком случае — я иду к ней. Прежде чем я поставил камеры, я, наоборот, отдалялся от нее с ужасающей скоростью. Я до сих пор не уверен, что Саманта затеяла с Марком Пенджелли — если вообще затевала. Но я смогу выяснить. Теперь я могу поступать как следует. А Гай с Викторией — это было совершенно невероятно. Поразительно. Сколько раз я, услышав, что они дерутся, поднимался и слышал только взаимные обвинения? Но в этот раз я знал. Знал. И это было хорошо.
Бедный Гай. Хотя теперь-то я понимаю: ему просто необходимо, чтоб я был твердой границей в его жизни. Поэтому-то он и сорвался. Это была благодарность пополам со стыдом.
Теперь я уже не так корю себя, как день или два назад. Тогда я чувствовал себя виноватым. Я знаю, что, если все раскроется, они меня не поймут. Но это все к лучшему, я уверен. Теперь я могу делать то, что нужно. Теперь я могу быть мужчиной. Отцом, мужем. И удивительней всего то, что они меня за это уважают. Это видно. Нет, они, конечно, злятся и расстраиваются. Но на более глубоком уровне становятся спокойнее и увереннее. Это как будто они все время хотели поверить в Бога, а теперь обнаружили, что он действительно существует.
Ладно, ладно, меня, конечно, заносит. Понятно, что я не Бог. Но я отец — детям нужно, чтобы отец о них заботился, несмотря ни на что. Возможно, это относится и к некоторым женщинам. Да, это, конечно, очень неполиткорректная идея. Саманта была бы в ужасе. Но это всеобщее желание. И я его чувствую: все мы мечтаем о ком-то, кто установит правила и возьмет на себя ответственность.
Довольно скоро я избавлюсь от всей этой машинерии — как только усвою основные понятия и законы, по которым течет семейная жизнь, увижу то, что спрятано. Я не стану с этим затягивать.
Вот и Шерри говорит, что это более чем нормально. Любой сначала будет чувствовать себя немного странно.
Шерри Томас. Головоломка в тумане. Все окутано тайной. Зачем ей смотреть записи моей семьи?
Вот это действительно странно. Но вполне безвредно, надо полагать. А если говорить начистоту, идея совместного просмотра кажется мне интересной. Нет, не интересной — возбуждающей. Да. Буду стараться быть предельно честным. Ради этого все и затевалось.
Шерри, она… необычная. Какое у нее бледное лицо. Она практически полная противоположность моему типу женщин — блондинка, а не брюнетка, все эти деловые костюмы, потом — эти губы. И американка. Обычно сексуальность американок какая-то стерильная, бесстрастная. Тонкий голосок, скулеж среднезападный.
Когда я о ней думаю — а я думаю о ней, сидя в своем кабинете, простукивая суставы, прослушивая легкие, прощупывая животы, вглядываясь в воспаленные красные глотки, — я не представляю себе… секс. Да и о ней как о человеке я не думаю. Она не то чтобы очаровательна, или остроумна, или даже как-то особенно умна, хотя она безумно проницательна. Нет. В ней есть какая-то… губительная пустота. Как будто она сама камера и весь мир — под ее безразличным взглядом.
Но есть что-то еще. Бесстрашие. Но чем это может быть привлекательно?
Возможно… может быть, в моем сознании она стала ассоциироваться с некой свободой. Не свободой юности, с ее внезапными и вымышленными шагами к совершенству. Свободой другого рода. Компенсаторной свободой. Что это?
Проходит несколько секунд. После чего он щелкает пальцами.
Возможно, вот оно в чем дело. Уникальность Шерри не в том, что она вуайеристка, не в том, что она хочет просматривать записи.
Она уникальна своим безразличием.
Она свободна, потому что ей все равно. А я всю жизнь суечусь, хочу стать лучше — как человек, как муж, как врач. Сколько себя помню, у меня были эти › идеалы. Раньше я думал, что они могут освободить меня. Они были достойными. Вели к цели. От них мне становилось лучше. Добродетель сама себе награда, et cetera [7]. Но в последнее время все чаще они стали казаться мне оковами, тяжким грузом, уздой, которая саднит. Все время.