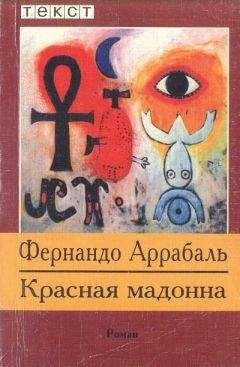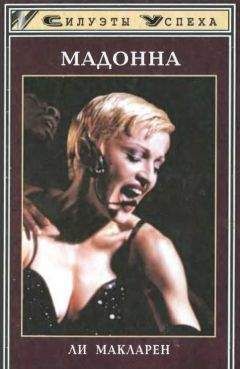Нет, ты не могла поставить крест на своем будущем, став безликой мужней женой и вульгарной наседкой. С какой злобой извергались из тебя твои яростные химеры, распаленные лестью! Какому же они подвергали тебя тлену!
«Нет, мама. Ничто меня не осквернит, как ты говоришь. Ты должна знать, что дети — не собственность родителей».
Твой измельчавший разум терял самые чистые свои добродетели, и пагуба мешала тебе отныне гармонично соединять знание и благость.
«Я очень благодарна тебе, мама, за все, что ты для меня сделала, но я не могу всю жизнь быть безвольной куклой в твоих руках».
С какой самоотверженностью, многого лишившись, принесла я в жертву свою жизнь! Как ты всегда затмевала меня! Никогда я не домогалась от тебя похвал, но меня так глубоко оскорбили твои сумасбродные речи.
Мне приснилась ты; сидя на верблюдице, ты направляла ее величавую поступь к фруктовому саду. Ты не страшилась стража у ворот — грозного дракона. Одним ударом когтистой лапы он сбросил тебя наземь и обжег твои руки пламенем, исторгнутым из легких.
CXIII
С далеко идущим коварством, расчетливо плел Бенжамен свои сети. При помощи своей славы пианиста он собрал полчище заграничных ученых всех мастей, которые начисто отбили у тебя способность мыслить. Мало того что ты отринула замысел — ты яростно восстала против него.
«Я хочу думать самостоятельно, мама, я хочу быть свободной».
Ты смотрела на меня с невменяемым видом, переполненная своим умоисступлением.
«Я вовсе не влюблена в знатного англичанина, в этом ты можешь быть уверена».
Слово за слово, ты открывала мне все, что столько недель держала в тайне.
«Но мы уедем в Англию вместе, мама, — я, Абеляр и Бенжамен».
Безостановочно подтачивающий твой разум червь материализма сделал свое дело, и скверна пересилила все твои добродетели. Какое глубочайшее разочарование!
«Я питаю большую нежность к Абеляру, мама. И он тоже очень любит меня. С ним все совсем не так, как с другими. Все остальные — просто добрые друзья».
Одна лишь туча — но какая тяжелая, какая черная — окутала мраком мой горизонт. Предательство, скрытое в собственном мраке, траурной тенью заслонило небосвод.
«Да, Абеляр и я, мы будем вместе, на всю жизнь».
Я не могла поверить, что ты готова стать заурядною женой. Какие бесконечные муки причиняла ты мне!
Мне приснилось, будто артиллерийское орудие XVI века дало пушечный залп. Ядро упало в пруд, распугав лебедей. Из образовавшейся воронки всплыла на поверхность прекрасная девушка и увидела свое отражение в зеркале вод. И так долго и с таким слепым восторгом любовалась она собой, что не заметила второго ядра, которое попало прямо в нее. Прекрасную девушку испепелило на месте, и, умерев, она обернулась цветком.
CXIV
Наш с тобой последний разговор начался 8 июня пополудни. Двенадцать часов оставалось тебе жить на свете. Ты поносила меня, точно с цепи сорвавшись.
«Мама, не настаивай, я все равно не передумаю. Завтра я уезжаю в Лондон и порываю всякую связь с тобой».
Исполняя свой долг, я пыталась овеять твой разум свежим дыханием, чтобы остудить охвативший тебя жар. Истина должна была восторжествовать над взявшими тебя в полон пессимистами, хулителями и скептиками. Эта жалкая горстка шарлатанов заморочила тебе голову. Они на поверку только и умели, что отрицать, как иллюзорную или вымышленную, действительность, которую неспособны были ни преподать, ни познать. Тебя необходимо было спасти. С какой решимостью объявила я тебе, что предпочту видеть тебя мертвой, нежели виновной в измене. Совращенная подлыми происками до крайности, ты становилась духовной гетерой.
«Я прощусь с тобой завтра без ненависти, поверь мне, мама. Ты должна знать, что Абеляр не превратит меня, как ты опасаешься, в рабыню, совсем наоборот, с ним я смогу исполнить свое предназначение, свободно и самостоятельно».
Такой цинизм при столь глубоком заблуждении ужаснул меня. Не могла же ты отправиться в Лондон с горнилом.
«Не кажется ли тебе, мама, что в жизни могут быть дела поинтереснее, чем работать каждую ночь, запершись с тобой в подвале, у печи?»
С какой яростью ты кощунствовала! Брызги желчи летели у тебя изо рта. Тлен глядел из твоих глаз смертельной жутью.
Я посмотрела на тебя и увидела твой скелет со всеми двенадцатью сочленениями. Я зажмурилась. Посмотрела снова и увидела твой труп, пожираемый червями, внутри прозрачной сферы. Опять открыла глаза и увидела тебя глубокой старухой, коленопреклоненной у твоей же могилы, надпись на которой гласила:
«Здесь покоится добродетель — поверженная».
CXV
С каким стыдом поведала ты мне самый кошмар твоей истории, словно ждала оправданий от той, что всем пожертвовала ради тебя.
«Абеляр и я — мы поженимся в Англии».
Нет, ты не могла отказаться от замысла так беспечно. С великой радостью и умиротворением смотрела я, восхищенная, на последнюю твою операцию в подвале. Ты выделила философскую ртуть, осадив чистую серу на дно перегонного куба. Могла ли я вообразить тогда, что через считанные дни ты объявишь о своем отступничестве? С каким терпением достигла ты четвертой степени огня. Вещество расплавилось, и цвета один за другим сквозили на поверхности, пока не проступил долгожданный красный. Он становился все ярче, по мере того как испарялась влага и сухость являла все совершенство твоей работы. Затем ты искусно и неспешно остудила вещество, и образовалась друза, состоявшая из очень твердых и лучистых кристалликов рубина.
Как хорошо знала я, что ты будешь не в силах, став женой Абеляра, продолжать осуществление замысла до создания камня.
«У меня теперь другие дела, мама».
Я напомнила тебе, что ты поклялась никогда никому не открывать того, о чем учителя и адепты сочли нужным и разумным хранить тайну. Ты дала зарок молчать о цели твоих изысканий. Передавать знание тебе было позволено лишь под покровом символов.
«Не беспокойся, я никому не расскажу, что проводила все ночи за работой у горнила. Думаешь, такие подробности кому-нибудь интересны?»
С каким цинизмом открыла ты себя суетности! А ведь ты лучше, чем кто бы то ни было, знала, что только на пути творения достижима совершенная гармония, благодаря природным свойствам неорганических тел и любви.
CXVI
До конца этой ночи я должна была вырвать мятежные побеги, пустившие корни в твоем нутре. Мои увещевания начали постепенно рассеивать твои химеры.
«Но, мама, пути назад нет. Билеты на поезд и на пароход уже куплены. Англичане сняли для нас дом в Лондоне, где мы будем жить».
Все эти отговорки были так далеки от той чистой теории, которую ты создавала в нашем доме! Единственным делом твоей жизни было работать, проявляя благость и упорство, с серой, которую ты извлекала из обычных металлов как главный связующий элемент твоего созидания. Все достопамятные события свершились твоими руками у горнила; в Лондоне тебя ждали лишь горести и разочарование. С какой ясностью успела ты познать разницу между золотом мудрецов и драгоценным металлом. С каким мастерством сплавляла ты серу и ртуть, чтобы сотворить философское яйцо и наделить его способностью произрастания. Ты не могла оставить незавершенной эту неотъемлемую составную часть замысла. Без малейшего проблеска теории пыталась ты отстоять несостоятельное: «Никто не толкает меня на духовную панель. Никто не заставляет меня заниматься недостойными делами. Я не буду, как ты говоришь, вульгарной самкой, продавшейся первому встречному. Абеляр — вовсе не тот деспот, каким ты его себе представляешь. Иначе я не полюбила бы его».
Позапрошлой ночью мне снилось, будто нам, тебе и мне, явилась Энергия в образе величественной женщины. Она несла в левой руке башню, а правой душила крылатого змея. Громоподобным голосом она произнесла:
«Философская ртуть берет сияние свое у серы, как луна свой свет у солнца».
CXVII
На исходе ночи ты начала меня слушать, но до чего же мало оставалось у меня времени, чтобы спасти тебя!
Окрыленная, обнаружив, что ты снова внемлешь моим речам, я растолковала тебе, какова будет твоя жизнь без меня в Англии. В обмен на какие-то дребезги почестей ты лишишься смысла своего существования. Так глупо было подрубать под корень замысел ради щепок славы.
С какой бесконечной любовью, с какой благодарностью, с каким восхищением все эти годы тяжкого труда взирала я на тебя, когда ты, поглощенная делом, работала у горнила, продвигаясь все дальше вперед. Нет, ты не могла прихоти ради разрушить в считанные часы мою надежду.
Ты впервые заплакала, дав волю еще робкому подспудному голосу раскаяния; казалось, поток благоуханных слез, накопившихся за долгие годы, прорвал плотину.
«Я так слаба, мама, так растерянна, так потрясена. Я не нахожу в себе сил, чтобы бороться, тем более чтобы победить».