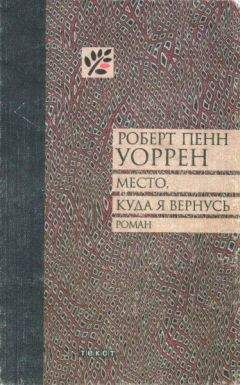Раз уж зашла речь о воскресеньях, я с неприятным чувством вспоминаю одно из них, когда что-то изменилось. В тот день после обеда — на улице было слишком дождливо и ветрено, чтобы идти гулять, и ни в одном из близлежащих кинотеатров не предвиделось фильма, который можно было бы назвать серьезным, — меня охватило холодное вожделение, смешанное со скукой, недовольством жизнью и самим собой, и я как зверь кинулся на Агнес, махнув рукой на рассыпавшиеся по полу карточки три на пять дюймов со своими заметками. Она некоторое время сопротивлялась, правда, только на словах, но в конце концов, стиснув зубы, покорилась — могу добавить, что лишь в самом буквальном, а не духовном смысле. Эта победа, одержанная на кушетке в гостиной (жесткой и неудобной), причем с жертвы были сорваны только те предметы одежды, которые непосредственно мешали делу, а мои брюки болтались где-то в районе щиколоток, оказалась сугубо пирровой. Во всяком случае, это не было то нежное интимное слияние, которое я когда-то себе представлял.
В ту зиму — вторую зиму нашего брака — я еще несколько раз нарушал график, и всегда с тем же результатом. В конце концов я решил, что оно того не стоит. К тому же Агнес стала жаловаться, что плохо себя чувствует.
Дело было действительно скверно. Диагноз гласил: рак матки.
Несколько дней после того, как нам сообщили диагноз, и до того, как ее положили в больницу, мы по-прежнему спали вместе. В первую ночь я проснулся около трех часов и заметил, что она лежит, глядя в потолок. Я нащупал ее руку и взял в свою. Потом в темноте послышался голос, совершенно спокойный и совсем непохожий на ее обычный голос, — как будто говорил маленький ребенок.
— Они сказали, что это растет у меня внутри, — произнес голос.
Она выдернула у меня руку и вдруг села в кровати. Я попытался обнять ее, но она меня оттолкнула. Я выскользнул из-под одеяла, обошел кровать, зажег ночник с ее стороны, пододвинул табуретку и сел.
Она сидела очень прямо и медленно, осторожно водила руками вверх и вниз по груди и животу, словно ощупывая себя. Потом подняла голову и сказала:
— Но там ведь ничего нет. Ну, кроме того, что там должно быть, — добавила она со своей обычной скрупулезностью.
Ее руки продолжали медленно, ласково гладить ее тело, скользя по шелковистой ткани ночной рубашки. Я нагнулся и перехватил их. Я не мог этого видеть.
— Дорогая моя, — сказал я как можно нежнее, и горло мое сжалось от боли. — По-видимому, там действительно что-то есть. Но только… — Я постарался улыбнуться. — Но только это не так уж важно. Все врачи говорят, что это не слишком серьезно. Они это удалят. И тогда ты…
— Но там ведь ничего нет, — с уверенностью сказала она. — Там ничего не может быть. Откуда оно могло там появиться?
Она умолкла, а потом, неожиданно взглянув мне прямо в лицо, произнесла совсем другим тоном — удивленным шепотом, как будто это только что пришло ей в голову:
— Разве что это ты…
Она резким движением выдернула у меня свои руки.
— Разве что… — Потом, после паузы: — Разве что ты туда это…
Она снова умолкла.
Она уже не смотрела мне в лицо. Я сидел в пижаме на табуретке, подавшись вперед и опираясь руками на широко расставленные колени, а она не сводила глаз с бесформенного комка моих гениталий, дремавших под легкой тканью.
Продолжать она не могла. Она вдруг закрыла лицо руками, и плечи ее затряслись от рыданий. Я попытался погладить ее по спине. Сам я не чувствовал ничего. Мой мозг наотрез отказывался что-то понять, как будто ища спасения в минутном отупении. Я знал только одно, как тогда, давным-давно, в такси, — что надо как-то прекратить эти рыдания. И я все гладил и гладил ее по спине.
Она закусила нижнюю губу, чтобы успокоиться, и посмотрела на меня с трогательной мольбой во взгляде.
— Ну, скажи мне, что я еще не совсем сумасшедшая, — взмолилась она. — Скажи мне, что я сошла с ума только на секунду, когда это подумала. Скажи мне, что я не схожу с ума по-настоящему.
Я пересел на край кровати и обнял ее. Долго сидел я так, и в конце концов ее голова опустилась на мое плечо. Напряжение понемногу покидало ее тело. Она так и заснула, и я бережно уложил ее.
Проснувшись на следующее утро, Агнес была совершенно спокойна. И до того дня, когда ее положили в больницу, оставалась столь же спокойной, время от времени улыбалась и безмятежно болтала со мной о всяких мелочах. Накануне вечером она попросила меня сесть рядом с кроватью и стала говорить, что любит меня. Что понимает меня теперь намного лучше. Что совсем не боится. Что мы еще поживем в свое удовольствие — в точности так, как и планировали.
Через некоторое время я сказал, что мне надо в уборную.
Мне было необходимо в уборную. Там можно было плакать.
После операции врачи предупредили меня, что не следует питать чрезмерного оптимизма.
Я просидел у постели Агнес, пока меня не прогнали. Потом я пошел домой. Какой-то незнакомой показалась мне наша квартира, когда я вошел, — у меня появилось чувство, будто я ошибся дверью. А может быть, все двери во всем мире одинаковы. Войди в любую дверь — то, что ты там найдешь, будет тебе и незнакомо, и знакомо, и суждено всем всегда одно и то же. Посмотри в зеркало — и удивись, чье бы лицо ты в нем ни увидел.
Я выпил большой стакан виски и улегся в постель. В постель, которая была мне привычна и в тоже время незнакома. В темноте я стал ощупывать свое тело, как это делала она. Я думал о том, какая истина таится там, в темных, пульсирующих внутренностях, из которых состоит тело. Тело есть тело, думал я. Как глупо, как нелепо давать тому или иному телу собственное имя.
Заснуть я не мог. Я встал, подошел к столу и раскрыл свою дурацкую диссертацию. Но мои глаза не видели слов. У меня было ощущение, будто я замурован со всех сторон. Будто этот стол был моей последней надеждой, последним путем, ведущим на волю, но теперь его преградила свежая каменная кладка. Будто меня предали.
Я почувствовал, что меня вот-вот вырвет.
Через некоторое время я протянул руку и, преодолевая мучительные сомнения, положил перед собой лист бумаги. Я уставился на этот пустой белый лист. Клянусь, что в голове у меня была такая же пустота. Я с удивлением увидел, что моя правая рука взяла ручку и начала писать. Каждая буква, появлявшаяся на белой бумаге, казалась мне каким-то таинственным явлением, каждое слово — чудом, которое совершается само собой. Я с острым интересом смотрел, во что сложатся эти слова. Они выстроились строчкой наверху листа. Все буквы в них были прописными. Когда написались все слова, моя рука подчеркнула их ровной жирной чертой. На листе бумаги стояло:
«ДАНТЕ И МЕТАФИЗИКА СМЕРТИ».
Рука писала и писала до четырех часов утра.
Агнес быстро оправлялась после операции и была бодра и весела. Когда я сидел у ее кровати, она говорила о том, как исполнятся все наши мечты. После этих разговоров я всегда возвращался в нашу квартиру, моя рука брала ручку, и та начинала свое медленное, часто прерывавшееся, но неумолимое путешествие по бумаге.
Я думал об Агнес, оставшейся в темноте больничной палаты, и о том, чем заняты ее мысли, когда она лежит и смотрит в потолок. А ручка продолжала свое тайное путешествие, о котором Агнес даже не догадывалась.
Потом Агнес вернулась домой. Первым, о чем она попросила, были ее черновики, что-нибудь, на чем можно писать, и ручка. Сидя в кровати в своих роговых очках, с нахмуренным лбом, она работала больше часа. Неделю спустя она могла работать уже по нескольку часов в день. По ее словам, у нее появились кое-какие замечательные новые идеи. И почти каждый день она писала по длинному письму отцу (у ее матери недавно случился удар, и она теперь ни на что не реагировала), сообщала ему, как себя чувствует, и просила о ней не беспокоиться.
Что касается домашних дел, то она настояла на том, чтобы самой готовить еду, хотя и я многому по этой части научился, пока жил один. Иногда вечерами к нам приходили гости, чтобы выпить хересу и послушать Моцарта, Баха и Вивальди, и Агнес держалась так оживленно и весело, как никогда раньше, — у нее даже стало проявляться восхитительное робкое остроумие, которому эта робость придавала особое очарование. Теперь гости всегда уходили рано. В те вечера, когда мы были одни, я убирал посуду, а потом Агнес сидела у меня на коленях, в точности как тогда, когда я за ней ухаживал, и мы говорили о будущем. С каждым днем сил у нее прибавлялось.
А потом она начала слабеть.
За все это время я ни разу не говорил Агнес, что находится в запертом портфеле на самой верхней и самой темной полке в чулане, примыкавшем к моему кабинету. Но по ночам, когда Агнес крепко засыпала (с помощью легкого снотворного, которое ей прописали), я, чувствуя себя виноватым, запирался в кабинете, и моя рука, освещенная лампой с зеленым абажуром, бралась за ручку, которая через некоторое время начинала двигаться по бумаге.