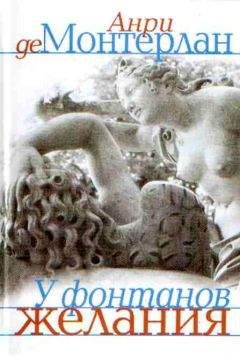Повторяю: без письма или без телефонного звонка, извещающего, хорошо или плохо я вел себя вчера, мы больше не увидимся. Это зависит только от вас.
До свидания, моя маленькая мадмуазель, или прощайте. Я, может, готов испытать к вам чувство с подозрением на глубину (но в этом я еще не совсем уверен). Здесь есть слабое желание, упустить его было бы несчастьем. Посмотрите, неприятно ли оно вам или нет, не думая о моем удовольствии и советуясь только со своим. И скажите мне с той же откровенностью, с той же доверительностью, которую, льщу себя надеждой, я засвидетельствовал в этом письме.
Косталь
1 Он лжет (прим. автора).
240
ЗАПИСАНО КОСТАЛЕМ В БЛОКНОТ
Послал ей посредственное письмо. Не странно ли: когда обращаешься к незнакомой или полузнакомой женщине, которая вам нравится, избежать стиля приказчика удается только благодаря страсти или цинизму? Язык страсти здесь неуместен; это письмецо — компромисс между вздором и дерзостью. Она полюбит вздор, не почувствует дерзости и позовет меня через двадцать четыре часа.
В реальности я ни в чем не уверен. Я неспособен предвидеть ее реакцию в данном случае. Когда я действую с нею, у меня впечатление, что я чиновник с набережной Орсэ1: делаю все на цыпочках и полагаясь на милость Божью.
Для меня есть что-то режущее в представлении, какое счастье доставило бы другим женщинам это письмо, а я им отказал. Но в этом представлении есть и своя прелесть.
То, что я нашел в этом прелесть, заставляет меня подумать, что я свинья. Свинья ли я?
Однако Брюнет, например, делает мне комплименты: «Тебе не кажется, что шикарно иметь такого родителя? «
Он даже удивляется: «Почему же ты такой милый?»
Все дело в том, что есть существа, которых я люблю, и те, которых я не люблю. Все очень просто. В этом ключ.
Нет, ни сердце не похищено, ни плоть, но что-то взято. Какое глухое и страстное желание возникает во мне: нравиться ей! Если бы я различал в ее голосе дрожь…
Мадмуазель Дандийо не прислала «Хорошее письмо». Она позвонила. Смысл ее ответа: «Признаться, я не очень хорошо поняла ваше письмо. Но я к вам очень расположена. Почему бы нам не встретиться?» Они договорились пойти на концерт. Косталь выбрал самый дорогой в Париже, потому что, когда рядом женщина, речь идет не о том, чтобы хорошо, а лишь о том, чтобы дорого.
Выход хористок на сцену напомнил выход арестантов из ворот Сэн-Лазара: старые, бесформенные, страшные, фантастически безвкусно одетые. Расположились музыканты, коротконогие спички с платочками на шее, как у едоков. Усилия этих несчастных придать себе артистический вид (прядь на виске, волосы на шее и т.д.) могли вышибить слезу. Все это, усевшееся на садовые железные стулья перед бессмысленной декорацией патронажного зала, — мерзкая «листва» и разорванные «пилястры» — показалось столь феерическим зрелищем некоторым зрителям, что они стали разглядывать его в лорнеты.2
1 Т.е. сотрудник Министерства иностранных дел, которое находится в Париже на набережной Орсэ.
2 Надо ли отмечать, что эта глава — нечто вроде мистификации, созданной кем-то, кто время от времени бывает под мухой, и не способна задеть людей, обладающих юмором? Можно сделать карикатуру на то, что любишь, причем, чем больше любишь, тем острее. Чего только я не пишу об Алжире, Испании! Я отношусь с симпатией к любителям музыки, признателен музыкантам; находясь на столь твердой почве, я могу себе позволить несколько прыжков. Если не ошибаюсь, в других книгах я говорил о музыке (церковной, русской, испанской, арабской…) со всей серьезностью и волнением, поэтому стоит простить мне эти страницы (прим. автора).
241
Конечно, что нельзя требовать, чтобы лицо каждого было отмечено печатью гения. Но почему им не надевают маски, — как в античном театре; или же почему их не прячут в овраге, как в Байрейте?
Месье был весьма деликатен. Все же Соланж согласилась. Но он чувствовал, что она намерена согласиться с любыми его словами. Он взглянул на присутствующих, и поразительная уродливость этих мужчин и женщин, непотребная, смешная и грязная декорация изгнали его взгляд. Изгнанный, взгляд скользнул, поднялся к потолку, в надежде найти там росписи с фигурами благородных людей. Но и на потолке был лишь позолоченный гипсовый орнамент, грязный, словно закопченный заводским дымом: по всей видимости, в этом зале дышало не одно поколение. Если бы рядом не было Соланж, Косталь смылся бы моментально. Он уже вышел из терпения.
Вскоре включили свет; теперь он стал резким и в зале, и на сцене. Это чудовищная идея: они должны быть погружены в ночь.
Запаздывали с началом; от нетерпения зрители стали постукивать подошвами. Но через восемь секунд все успокоилось. Потом снова кратковременный кризис. Удивительные порывы дурного настроения в этой толпе, удивительные своей непродолжительностью. Даже порыв патриотизма мог бы продлиться на несколько секунд дольше.
Наконец, дирижер опустил палочку, и все присутствующие на сцене одновременно стали производить шум.
Музыканты с яростью возили смычками; Косталю показалось, что он чувствует у скрипачек запах подмышек, и это его взволновало: «Это самое лучшее в спектакле», — подумал он.
Соланж, сидевшая наискосок, приблизилась к нему. Он погладил ее шею, гладкую и точеную. Он заметил, что ее лицо совсем рядом, будто она хочет дышать его воздухом. Островки кожи замелькали в шемизетке, как песочные мели в белом соляном озере. Черты ее лица, которые ему не нравились, он воспринимал как запасный выход из зала, через который, в случае чего, можно ускользнуть, или как двусмысленные оговорки контракта: например, тяжеловесный подбородок позволит ему в один прекрасный день покинуть ее с легким сердцем. Он поцеловал ее в затылок, и тот не сплоховал (девичий запах волос). И его кровь шумела, как листья, когда рука скользила по платью, чувствуя подвязки и длинные ляжки. Он удивился: столь серьезная девушка разрешает ласкать ляжки на глазах публики! Он не понял, что она уже хотела то, что хотел он.
– Я считаю, что в этом первом движении (симфонии) есть что-то… как бы сказать? угнетающее, — сказала мадмуазель Дандийо, которая, действительно, была угнетена, но другим. — А вы?
– Я? Я ничего не считаю. Положа руку на сердце, вы любите музыку? — спросил он секунду спустя с подозрением.
Она подняла брови с видом: «Так себе…» Но уточнила:
– Чего я не люблю, так это церковной музыки.
242
«Ах! — подумал он, — какое отсутствие позы! Решительно, меня восхищает в ней то, что она ничем не интересуется. Она не стремится ослепить вас своей специальностью. А то, что у нее отсутствуют мысли, — самое надежное для женщины средство не иметь ложных».
Он обнял ее. Теперь она сидела наискосок, привалившись к нему. Он притворился, что поднимает с пола какую-то вещь, и поцеловал ее, чувствуя сквозь юбку каучуковый запах ее пояса. Иногда он подолгу прижимался к ее затылку, словно медленно вводил в себя все, что было в этой женщине. «Нет! — подумал он с восторгом, — никто никогда не вел себя на публике с женщиной так плохо, как я!» Ему было радостно думать, что, если бы он увидел здесь парочку, которая вела себя так же, он должен был бы сдержать себя, чтобы не сказать: «Послушайте, ведь существуют отели!» Он всегда любил изобличать себя и тем самым испытывал веселое чувство своей многоликости.
Чуть отклонившись назад, он заметил рядом с Соланж молодую женщину; откинувшись на спинку своего кресла, она слушала с полуоткрытым ртом и закрытыми глазами. Она не была прелестной, но Косталь ее захотел: 1) потому что считал приличным, что в ту минуту, когда он впервые ласкает девушку, он хочет другую; 2) потому что иллюзия ее сна не могла не внушить мысли воспользоваться ее сном; 3) потому что ему показалось, что, дабы испытать подобный экстаз от столь нелепого феномена, как эта музыка, надо быть отчасти неврастеничкой; вообще он любил только здоровых и простых девушек, вроде Соланж, вот почему сейчас ему было приятно пожелать неврастеничку.
Внезапно молодая женщина безумно откинула голову, как птица каракара, когда она заканчивает свой крик, даже со сладострастным выражением. Видно было, что один из этих звуков вонзился в самое ее чувствительное место.
Рука Косталя пробралась за кресло Соланж и легла на спинку следующего кресла так, что плечо незнакомки опиралось на нее. Но его легкие подавливания не вызвали никакой реакции со стороны молодой особы, совершенно растворившейся в двувязных нотах. Он оставил дело. Тем более, что от этой гимнастики начались подергивания в руке; игра не стоила свеч. Особу, достаточно глупую, чтобы поверить, что он действовал контрабандно, скрытно, позорно, как ризничий, можно было бы смутить тем, что: 1) Косталь в самом деле хотел сделать «подкормку» для серьезной интриги, встречи с незнакомкой; 2) что «подкормка», не пробуждая внимания Соланж (например, записка передается незнакомке за спиной Соланж), была прекрасным спортом, одним из тех номеров, во время которых оркестр замирает и, таким образом, то не была бы работа ризничьего — скорее, работа архангела.