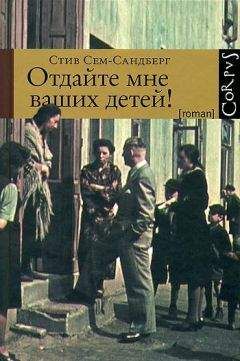Несмотря на изнурительное сидение над списками, было что-то глубоко умиротворяющее в том, чтобы покинуть контору так поздно. Высокие фасады с рядами затемненных окон давали ему ощущение покоя. То на углу улицы, то возле мастерской дежурил какой-нибудь полицейский. Возле краснокирпичной крепости крипо длинными блестящими рядами стояли лимузины гестапо.
Так он доехал до по-ночному пустынных улиц Марысина.
Он сидел, надвинув шляпу на лоб и подняв воротник пальто до ушей. Единственным звуком, слышным в эти темные ночные часы, кроме скрипа колес дрожек и глухого стука лошадиных копыт, были удары плетью, когда кучер погонял лошадь.
Марысин был каким-то другим миром. Въезжая сюда, председатель ощущал: гетто как будто распадается. Здания давали усадку, растекались за стенами и оградами. Дома, сараи, мастерские, хозяйственные постройки. То тут, то там — земельные наделы, которые когда-то относились к дачкам и которые он теперь раздал по отдельности своим самым лояльным сотрудникам. Потом следовали кибуцы, организованные некогда сионистами, — большие открытые поля, где красивые молодые мужчины и женщины ходили с лопатами и тяпками среди огороженных веревочками рядов картошки, капусты, свеклы.
Зеленый дом был самым дальним из летних домиков, которые он переделал под сиротские приюты и детские дома. Всего в гетто было шесть таких домов. К ним же относились недавно организованная детская больница и большая аптека. Но его сердце принадлежало детям из Зеленого дома. Только они напоминали ему о счастливых свободных годах в Еленувеке до войны и оккупации.
Здание было неказистое: облезлый двухэтажный дом с отсыревшими стенами и крышей, которая уже начала провисать. Как только его Kinderkolonie переехала сюда из Еленувека, он позаботился о том, чтобы дом перекрасили. Единственной краской, которую удалось найти в гетто, оказалась зеленая. И вот зазеленели стены, крыша, крыльцо, плинтусы, даже перила. Дом стал таким зеленым, что летом сливался с деревьями и кустами, разросшимися позади него.
Это было его царство — мир shtetl, мир маленьких, тесно прижавшихся друг к другу домов, где свет усердного труда светил в окошках до самого позднего вечера. Больше всего председателю хотелось явиться нежданным. Таким он видел себя сам. Обычный человек, безвестный благодетель, который просто проезжал мимо в поздний час.
Среди переселенцев, прибывших в эти месяцы, было много детей, которые потеряли родителей и близких (или те давно умерли). Среди них были девочка по имени Мирьям и безымянный мальчик.
Девочке было лет восемь-девять, она ходила по Зеленому дому с фибровым чемоданчиком, который отказывалась выпустить из рук и в котором Роза Смоленская потом нашла два отутюженных платья, теплое пальто и четыре пары обуви. Одна пара оказалась лаковыми туфельками с серебряными застежками. Во внутреннем кармашке чемодана лежало аккуратно сложенное удостоверение личности. Согласно документам, девочку звали Мирьям Шигорская. Она родилась и была зарегистрирована в Згеже. (Но приехала она не оттуда.) Еще в чемодане было несколько игрушек, кукла, польские книжки.
Мальчика в Зеленом доме оставили братья Юзеф и Якуб Кольманы, действовавшие по прямому указанию начальника эшелона из кельнской колонии. Мальчик прибыл с последним кельнским транспортом 20 ноября 1941 года. В списке он значился как «№ 677». Но эта цифра означала лишь, что он оказался шестьсот семьдесят седьмым человеком, зарегистрированным для отправки этим эшелоном. В начале колонки стояло только имя, «SAMSTAG», за которым следовал вопросительный знак, обозначение «SCHUELER», а в самом конце, под «JAHRGANG», год — 1927. Если при составлении списка не наделали ошибок, то «SCHUELER» было просто нейтральным «учащийся», и молодому человеку недоставало фамилии.
Его записали «СУББОТА», SAMSTAG, потому что братья Кольманы оставили его у дверей Зеленого дома в шаббат; под этим именем его и занес в приютский журнал доктор Рубин, заведующий:
SAMSTAG, WERNER, geb: 1927 (KÖLN);
vater/mutter: Unbekannt.
Уже с самого начала в нем проявилась какая-то неуправляемость, скованность. Он не мог пройти мимо стены или дверного косяка, не задев их. Если мальчик не сидел с отсутствующим взглядом, то целыми днями словно искал что-то — чего здесь нет или что находится у него за спиной. И потом — улыбка. Вернер улыбался много и, как думала Роза Смоленская, которой чаще других приходилось иметь с ним дело, почти бесстыже; улыбка его была полна мелких блестящих белых зубов.
Братья Кольманы, оставившие его, пояснили, что мальчик не говорит ни по-польски, ни на идише. Но когда Роза попыталась обратиться к нему по-немецки, то получила в ответ только злобную гримасу. Как будто бы слова существовали в нем и он понимал их значение, но не мог взять в толк, зачем она говорит то, что говорит, зачем обращается к нему по-немецки. Попытка заставить Замстага делать что-то, чего ему не хотелось, могла спровоцировать приступ пугающей ярости. Однажды он перевернул бадью для стирки, которую Хайя принесла в кухню, в другой раз принялся вышвыривать в окно мебель из комнаты Розы. Когда директор Рубин подошел, чтобы утихомирить его, мальчик вцепился зубами ему в руку. И не разжимал челюсти, хотя они вчетвером, включая Хайю, которая была минимум вдвое тяжелее, навалились на Замстага, пытаясь оттащить его. Впившиеся в руку директора Рубина частые зубки, блестящие и белые, походили на акульи.
С другими детьми он общался как будто без проблем. Замстагу нравилось играть с младшими, больше всего он любил возиться с Мирьям. Когда они гуляли во дворе, он в основном топтался на углу, почти комичный в огромных ботинках и вдвое выше своих маленьких товарищей по играм. Но если Мирьям куда-нибудь отправлялась, Вернер всегда шел следом. С малышами, Абрахамом и Леоном, он играл в полицию. Гонялся за ними с палкой и кричал: «Ich hot dich gekhapt», как и все прочие, но так странно выговаривал слова, что становилось ясно: раньше ему не приходилось говорить на этом языке.
(Роза потом вспоминала: ей с самого начала казалось, что речь Вернера была такой, как если бы никогда не живший в гетто человек научился имитировать интонацию, она даже как-то сказала ему об этом — по-немецки, конечно, потому что они говорили друг с другом по-немецки: «Du bist doch ein kleiner Schauspieler Du, Werner!..», и в следующую секунду его лицо застыло в отталкивающей улыбке, которую она уже научилась бояться. Одни зубы, без губ, и ничего не выражающие водянистые голубые глаза.)
* * *
Роза Смоленская работала с бездомными детьми и сиротами всю жизнь. В Еленувеке она прослужила восемь лет, и все это время заботилась о малышах. Кроме заведующего, директора Рубина, они с экономкой Хайей Мейер были единственными, кто после оккупации последовал за председателем в гетто. Остальные нянечки в начале войны переехали в Варшаву. Но все они были замужем и имели возможности. У самой Розы никогда не было ни мужа, ни возможностей — только бездомные дети. Теперь, вместе с Вернером и Мирьям, которые приехали последними, их было сорок семь человек.
Роза Смоленская вставала одной из первых. Зимой она была на ногах уже в четыре или пять утра, чтобы успеть разжечь огонь. Затопив большую кухонную печь, она спускалась к колодцу, туда, где начиналась ограда Большого поля. С рассветом на облака в восточной части неба ложились бледные лучи. Отсвет встающего солнца заставлял кирпичную стену кладбища отбрасывать на снег длинные тени. Через час-другой солнце достигало вершины стен, и свет искрился на заросших инеем проводах, провисавших между телеграфными столбами на Загайниковой. Часов в шесть-семь утра Роза видела возле станции Радогощ колонны рабочих — люди шли на работу или возвращались после ночной смены. Они двигались плотными группами, словно для того, чтобы лучше сохранить тепло в мороз, и в полном молчании. Слышалось только тонкое пустое побрякивание котелков, висевших у рабочих на поясе. Через равные промежутки времени морозную тишину сотрясали немецкие танки или грузовики, и солдаты с автоматами, настороженно патрулировавшие улицы со стороны гетто. Ближе немцы подходили редко. Более привычным зрелищем были черные катафалки, приезжавшие со стороны Балут. Иногда в них не оказывалось лошадей, и катафалки, как ассенизационные бочки, тащили впряженные в них люди, а другие несчастные толкали похоронные дроги сзади.
Принеся воду, она снова выходила на улицу и ждала; вот и Юзеф Фельдман с углем тащится вверх по Загайниковой. Зимой и летом он был одет в желтоватый овчинный тулуп и такую же шапку, так что его лицо почти терялось в этих узлах. Роза знала: председатель распорядился, чтобы Фельдман всегда в первую очередь разжигал огонь в Зеленом доме и вообще был готов бросить все, если там понадобится помощь. На самом деле Фельдман служил в похоронной конторе Барука Прашкера. Роза не отваживалась приближаться к Фельдману — боялась учуять от его рук запах смерти, — но помогала ему носить в подвал бочонки с углем, чтобы он мог ссыпать уголь и начать топить. Тем временем Мальвина будила детей. Они, дрожа от холода, теснились в коридорчике, дожидаясь, когда можно будет умыться. Роза наливала холодной колодезной воды в большой чан, который Хайя выставляла в проеме между кухней и столовой. Только закончив умываться, они подходили к столу, и Хайя отрезала им хлеба. Куски со временем становились все тоньше, но каждому из воспитанников всегда доставался хотя бы один кусочек хлеба с тоненьким слоем маргарина.