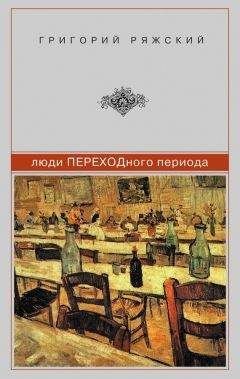— Чего-о? Кто дрейфит, я, что ли? Это вообще не сопли, если хотите знать, это у меня просто правая носовая перегородка искривлена, она воздух полностью не пропускает. Можете у отца спросить, он доктор, он знает. А вы говорите, дрейфишь.
Дядя Вадик на секунду тормознул раскидывать брезентовую постель. И дополнительно поинтересовался:
— А доктор по какому делу батя-то твой?
— Венерология и кожные заболевания, — без запинки выдал я хорошо известный мне факт, предмет гордости мамы, — профессор, между прочим, член-корреспондент.
Учитель задумчиво почесал в ухе:
— Ну, что член — это ладно. Это неплохо. Только при чём воздух в носу? Это ж вроде не по профилю. В носу… микроб, который… там, — он указал глазами на низ собственного живота, — не водится. В носу своя зараза, отдельная, не наша. Там своя, а тут своя.
— В каком смысле не наша, а своя? — удивился я, совершенно не насторожившись, потому что не мог ещё в те годы увязать ассоциативный ряд с фактологическим. — А наша-своя это какая?
Дядя Вадик сплюнул и отмахнулся:
— Ты вот чего, давай сюда к нам забирайся лучше, на брезент, пока мы не передумали, да? — Это он уже к неопрятно одетой, неопределённо толстенькой девчонке в короткой юбке и приспущенных чулках в резинку. К той, что сидела ближе ко мне. — И сама тоже давай, а то другие вас ждать не будут, ясное дело?
Мы понятливо расположились на импровизированной кровати, отгороженной от ребят условной ширмой в виде толстого бревна. Внезапно я почувствовал, что страх мой, сбитый дурацкой дискуссией про микробы в носу, ушёл. Исчез. Растворился практически до никакой пустоты. И я удивлённо осмотрелся, уже с прицельным интересом к новой для себя ситуации. В полутьме чердака девчонка под руководством нашего воспитателя уже задрала юбку до пояса и стягивала с себя табельные интернатские трусы из трикотажа небесно-голубого окраса, обнажив аккуратно встроенное между ног, успевшее уже изрядно обволосеть девичье устройство. И тут я ощутил себя полноценным мужиком. С моментально набухшей от прилива крови и превратившейся в небольшой упругий колышек подростковой пиписькой. И кем-то расстёгнутой мне ширинкой. Ребята за бревном напряжённо ждали развития наших отношений. Уверен, волновались, каждый прикидывая роль первоходки на себя. Дядя Вадик кивнул на колышек:
— Ты чего, прям так будешь? И штаны не сымешь даже?
Я неопределённо мотнул головой, что одновременно означало согласие снять и желание остаться при шириночном варианте.
— Ладно, — удовлетворился учитель, — давай приступай, солдатик, а я послежу, чтобы всё по уму у нас с вами пошло, как положено.
Казашка или чувашка легла на спину и раздвинула ноги. Синхронно, задрав кофту к подбородку, обнажила маленькие веснушчатые сиськи и рукой откинула назад блестящие смоляные волосы. Шмыгнула носом и равнодушно прикрыла миндалевидные глаза.
— Её Айгуль зовут, — уточнил дядя Вадик, — давай, давай, смелей, чтоб других не держать. — И опустился на перекрытие, запустив себе руку в штаны, под ремень. Только, в отличие от Айгуль, глаза оставил открытыми и упёр их в нас, жгуче буравя зрачками полутьму.
Я нерешительно кивнул, и эта нерешительность стала в моей детской биографии последней. Осторожно пристроив тело между Айгулиных ног, я сначала бережно потрогал одну её сиську, а потом и другую. И сразу понял, что уже нахожусь внутри её устройства, в самой девчонкиной плоти, в тёплой, тесной и опасной её глубине. Об этом же догадался по негромкому урчанию учителя, издаваемому где-то сзади и левей. Там он и пыхтел, трудясь над собой. Но мне уже было наплевать. Пережав спазмом воздух в горле и свет в глазах, я уже запустил свои мужские качели и сразу вознёсся на них к небесам, не замечая промежуточных качков: земля-небо, земля-небо, земля-небо, земля-небо… но ощущая лишь разламывающий меня на отдельные куски, толчками подплывающий ко мне ближе и ближе терпкий дух сладкой дыни, настоянной на перечной мяте…
Айгуль, как мне теперь вспоминается, в полётах моих тогдашних участия не принимала, она просто послушно ждала командирского приказа извне о завершении воздушного рейса, чтобы стряхнуть с себя космическую пыль и перейти в распоряжение другого пилота. Или пассажира, как хотите…
Но в памяти моей она задержалась, и, думаю, довольно надолго. Не потерялась. Но только теперь я понимаю, отчего Инке так пришёлся по вкусу мой ранний рассказ «Загадка интегрального исчисления». Потому что он был честный. Потому что переживания интеллигентного героя-педофила, вероятней всего, бессознательно базировались на моих личных ощущениях, вручённых моему персонажу.
Разумеется, я не про личную тягу к не оформившемуся ещё юному телу — такой тяги нет и не может быть. Я про знакомство с женской тайной вообще — про детально выписанную мной призывную красоту и завершённость женских линий, про волнительные удары сердечной мышцы, сопровождающие мужчину при самом близком соединении двух влюблённых друг в друга людей. Ближе каких не бывает. Или не влюблённых, но всё равно спаянных единой страстью, единым внутриутробным зовом.
Именно тогда — помните? — в этом рассказе, я впервые стал пробовать слово на вкус, касаться, страгивать и смещать его в стороны от материнского ложа, тут же возвращать обратно, мучить и издеваться, наслаждаться и снова отвергать, чтобы устранить на своём пути посторонние примеси и добиться абсолютной органики, единственно возможной музыки, доведённого до совершенства звука и полной гармонии с самим собой. А потом, когда глубокой ночью или под самое утро, когда тебя ни с того ни с сего торкнет, внезапно проснуться и бежать, нестись сломя голову, сшибая по дороге стул, к столу, к трофейному «Ундервуду» семейства Гомбергов, к дедову наследству, чтобы вставить, всадить с размаху найденное, наконец, приснившееся, привидевшееся слово, то самое, единственное, которого не хватало и не хватило. И снова ринуться высотным беркутом вниз, чтобы разом, с верхней точки охватить вновь раскинувшуюся перед тобой пастораль, но уже иную, обновлённую, доведённую, полностью завершённую твоим художническим воображением…
А с Айгулькой пересёкся на чердаке ещё раза четыре. От другой, второй, которая нормальная, отказался напрочь, даже пробовать не стал. Хотя ребята советовали, говорили, дурак, что ли, она ж куда красивей и лучше этой китаёзы криворожей. И не веснушчатая. Но я не поддался, меня всё равно тянуло к апатичной и равнодушной Айгуль, с её трогательными веснушками на неразвитых грудях, с её задранной до пупа короткой юбкой и неизменно небесными трусами. Я-то хотя и видел, что той неважно кто из ребят, руководимых зрелым извращенцем, залазит на неё и в каком порядке, но внутренне отбрасывал от себя этот неоспоримый факт. Потому что тайно от других знал: Айгуль, казашка или чувашка, как никто, напоминает мне девушку с японского календаря, январскую, ту самую, первую, открывшую своим обнажённым пупком наши чердачные состязания в мужской умелости. Где я, кстати, стал первым и не побеждённым никем чемпионом, если не считать дядю Вадика…
Отвлёкся. Что ж, нормально для полузакрытого типа околопсихопатической личности. Но зато сразу без перехода двинусь дальше. Итак, про Никуську, солнышко моё, ахабинскую затворницу, к которой я собирался в наш загородный дом обсуждать сроки переезда в Москву. И к Джазу, для которого прихватил четыре банки шпрот и обещал принять участие в опыте по извлечению снов. Да и к Гелочке нашей белочке, для которой расстарался и по случаю приобрёл школьный рюкзачок натуральной тонкой кожи тёмного Джазового колера с сотней карманчиков и карманов. Да! И к неплодоносящей старушке Нельсон, куда ж без неё. Видите, как всё у нас хорошо в семье и прекрасно!
К жизни в Москве Ника, в принципе, давно внутренне приготовилась, отлично понимая, что этого не избежать, как бы ни привыкли они с Гелкой к загороду, воздуху, камину и кокосику. Пальма, к слову сказать, как и Гелка, ощутимо вытянулась на ахабинских грунтах и зримо утолщилась в стволе. Гелка даже взяла за моду обниматься с ней по утрам, летом, конечно, когда та не была упакована в парниковый защитный кожух по самые краешки долговязых листьев. Целовала стволик, нашёптывала ему свои разные детские тайны, поливала низ, забравшись на табуретку, сбрызгивала из пшикалки зелень и не забывала про нужную подкормку. Нельсон, лишённая самой природой репродуктивной функции, видя и слыша всё, что происходит в доме, превосходно осознавала степень ценности семейной реликвии и потому не гадила возле пальмы, не метила её кошачьей мочой и не скреблась об неё. Разве что иногда, довольно редко, вспрыгивала с разбегу на шершавый ствол и, зацепившись за него когтями, томно выгибала спину, пробуя хребет на эластичность. Нет, вы поняли? Идиллия!
Это и ехал разрушать. Для начала посидели, потрындели с Никуськой. Ну что, спросил её тогда, какие, мол, планы на жизнь, девочка моя. Учиться будем? Трудиться? Замуж будем искать? Ника пожала плечами, искренне удивившись такой постановке вопроса. Нет, папа, учиться пока не собралась, об этом нужно будет подумать отдельно, потому что меньше, чем на психфак МГУ, не согласна, а знания придётся навёрстывать не один сезон. Работать? Возможно. Но давай посмотрим, как будет с Гелочкой. Школа пойдёт, уроки, то-сё, кто позаботится? Не ты же, правда? Правда. Не я. Не добытчик. Хотя, как сказать. Как тогда с училкой Джазовой получилось, не так уж и плохо, между прочим. Жаль, дурой полной оказалась, с глуповатой, наивной какой-то начинкой. Интересно, работает ещё? Впрочем, неважно, это я всё так… несерьёзно, извиняюсь за некстати подвернувшееся воспоминание.