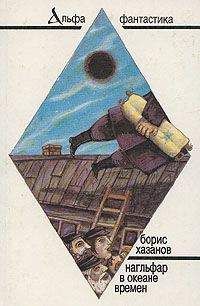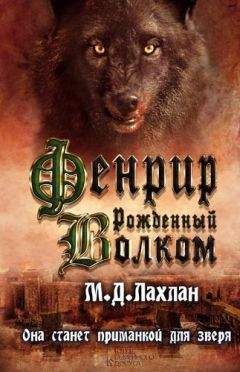Итак, на вопрос: по какому такому праву Бахтарев коптил небо? — дать ответ невозможно, ибо никаких особых оснований для этого не было. Государство, однако, по своей неизъяснимой милости терпело его полусуществование, а раз так, герой наш все-таки имел кое-какое право дышать государственным воздухом и жевать государственную горбушку — право на двести грамм милосердия, которым пользовались собиратель кусков, инспектор дымоходов и tutti quanti,[12] и все жильцы нашего дома, и труженики полей, и пионеры, и пограничники, и стахановцы, и все трудящиеся, и нетрудящиеся, и вообще весь наш народ.
36. Grübelei.[13] Русская болезнь
В записках гражданина без должности встречается странное выражение, которому он придает обобщенный смысл, не объясняя его, словно речь идет о чем-то самоочевидном.
Мы понимаем, что взяли на себя непосильную задачу, — этот человек неуловим. Разрозненные записки, свидетельства случайных лиц — попробуйте-ка восстановить случившееся, построить убедительную гипотезу на этом скудном материале. И все же трудно отделаться от впечатления, что чем ближе к развязке, тем меньше благодушной иронии в его обмолвках. И все же кажется, что мы понимаем его.
Проснуться от жизни, говорит он. Но разве и нам самим не приходится время от времени просыпаться, как просыпаются среди ночи, открывают глаза, а кругом немота и мрак. Проснуться от жизни, развести в стороны, как занавески на окнах, всю эту ветошь и видимость, и увидеть пустые провалы — да, это была бесспорно болезнь, и она настигала его длинными, вязкими вечерами: болезнь оцепенелого сидения за пустым столом, бессмысленного блуждания между вещами и обрывками мыслей. Все, куда ни обернись, было мнимостью и обманом, нужно было только протереть глаза, чтобы ничего больше не увидеть, и он в отчаянии озирал свои стены, свои пожитки, переводил взгляд с поставца на диванное ложе, где, казалось, еще не остыл след женщины, в тоске и отчаянии спрашивал себя, куда же деваться от сосущей пустоты и не было ли женское тело последним оставшимся у него способом спастись от истины; эта катастрофа сознания, собственно, и была последней истиной.
Истина заключалась в том, что все: и книжки, и женщины, и приятели — чушь собачья, а на самом деле нет ничего. Когда вдруг необъяснимым образом начинали бить старинные часы, — точно бронзовые листья один за другим падали в воду, — это был голос самого великого Ничто, это оно отзывалось со дна бытия. В этом состоял, как ему казалось, наш наследственный недуг, этот недуг породил нашу суетливую жадность к идеям, все равно каким, к хаотическому философствованию, привычку жить кое-как, есть кое-как и презирать всяческое благоустройство. Потому что знаешь: вся эта жизнь какая-то нарисованная; и вот-вот полезет по швам; высунешь голову, а там ничего нет, ни любви, ни Бога, ни истории: одно великое паралитическое Ничто. Вот что такое была эта болезнь, и лечить ее можно было лишь испытанным русским лекарством.
Мы не знаем, что это были за приятели, призрачные люди, каких во множестве породило наше время, где-то служившие, числившиеся в каких-то конторах или в каких-то артелях, а то и вовсе влачившие полуголодное существование, запасшись справками, которые охраняли их от наказания за тунеядство, что-то писавшие, но ничего не печатавшие, никому не ведомые, но зато высоко ценившие друг друга, беспомощные, тайно обожавшие сами себя и не смевшие себе в этом признаться. По мнению бабуси, они шастали в гости с единственной целью выпить и закусить; может быть, так оно и было, но несомненно, что их влекло к себе обаяние Толи Бахтарева, та неопределенная талантливость, которая, кажется, не находит для себя подходящей формы только потому, что не дает себе труда это сделать. Изредка он читал им свои наброски, гениальные мысли, слово «гениальный» любили в этом кругу, предполагалось, что он обработает свои записи потом, позже, все главное здесь откладывалось на потом. Эти люди исчезли, мы можем о них лишь упомянуть.
Бахтарев приходил к выводу, что он — банальный русский случай. Насчет гениальности — кто его знает; но если у него в самом деле был некий дар, то это была истинно национальная способность не принимать себя всерьез, даже не способность, а болезнь, неискоренимая русская болезнь — время от времени просыпаться от жизни.
Странная штука жизнь, ее не ухватишь. Выскальзывает из рук, как обмылок. Но ведь где-то же осталась, где-то должна быть настоящая жизнь, думал он. Бога нет, но есть деревья, есть синяя кромка леса на горизонте и дальний дымок паровоза, есть страна, куда можно отступить, где можно укрыться. Воспоминание о железной дороге поманило его за собой, и он принялся перебирать нить мыслей с конца, и время потекло для него вспять. Общежитие, армия, странным образом не оставившая воспоминаний, был даже план поступить в университет. Жена… он позабыл, как ее звали. Не стоило долго останавливаться на этой теме.
Дальше… Деревня. Тут можно было бы многое вспомнить. Но ему не хочется отвлекаться, где-то ждет главное, а между тем в этих мелочах, если вдуматься, и скрыта вся суть. Утро, солнце смеется за лесом, мокрая трава блещет брильянтами. И вдали, вдали — где еще можно увидеть такое? — огненным паром дымятся луга. Он спускается к речке с деревянным чемоданом, некогда идти в обход. Стуча зубами, стягивает с себя рубаху, сбрасывает штаны, связывает сапоги и вешает на шею, входит в камыши, держа на голове чемодан, с этим чемоданом так потом и мотался с места на место, от одной бабы к другой. Он выходит из воды, дрожа от холода, хлопает себя по бокам, по худым ляжкам.
Теперь прямиком через выгон, а там лесом и еще верст десять по большаку до железной дороги. В последний раз он поворачивает голову и смотрит назад. Дом, каким он остался в памяти, был совсем не тот, о котором рассказывала бабуся, ибо тот дом был очевидным порождением ее повредившегося ума, и оставалось лишь удивляться последовательности ее фантазий. Или это была правда? Новый дом, пятистенный, под железной кровлей, был срублен на деньги, подаренные барыней, и было это перед коллективизацией. Может, перед революцией? — спросил он. Перед какой революцией? Ну как, перед какой, — перед октябрьской. А я что говорю, возразила она.
«Прасковья, — сказал он, — ты не путай, ты подумай хорошенько и вспомни. Куда делась барыня?»
«Барыня?»
«Ну да. Куда она подевалась?»
«А никуда. Сгинула».
«Как это сгинула?»
«А вот так; все сгинули».
«Может, за границу сбежала?»
«Кабы сбежала, разве бы деньги оставила? И тебя бы тут не оставила».
«Меня?»
«Ну да, — сказала она, — а кого же. Ты думаешь, батя твой всегда был такой скрюченный? Это его жизнь скрючила, Бог наказал — за грехи».
«Постой. Ты не путай. Ты же говорила…»
«Чего я говорила, — проворчала бабуся, — ничего я не говорила…» «Я его не помню», — сказал Бахтарев.
«И не надо помнить. Бог с ним совсем. А вот я зато помню, какой он был, когда с войны вернулся, сама по нем сохла…» «Ты уж договаривай». «Нечего мне договаривать», — сказала она.
В полуверсте от деревни, в густых зарослях, стоял белоколонный дом с высокими окнами, в которых проплывали облака, за одним из этих окон, говорят, он появился на свет, и женщина в белом, выходившая на крыльцо, была так молода, что могла бы сейчас быть ему подругой.
…О, какое это было счастье, какая сладкая мука — видеть и обонять близость того, что так желанно, оглаживать эту округлость, преодолевая дрожь, зажать ее в руке, не расплескать, донести, донести до жаждущих губ! И влить огненную струю, и перевести дух. И зажмуриться, и втянуть в себя воздух полной грудью до боли в ноздрях. И налить снова.
37. Дух революции. Denn alles, was entsteht, ist wert, dass es zugrunde geht[14]
А что же девочка? Если верно, что бытие есть не что иное, как устремленность в будущее, и не зря знаменитый философ производил слово Gegenwart от глагола warten,[15] то вся наша жизнь — не более чем ожидание жизни; именно это с ней и происходило. Старый каббалист был прав, созревание тела было лишь знаком, уведомлением о том, что стремительно приближалось к ней, — но что именно? Похоже, что в этой пьесе по-настоящему интересным было лишь предвкушение; то, чего она ждала, не поддавалось воображению, и, таким образом, фантазия следовала правилу, которым руководствуется беллетрист, описывая соблазнительную сцену: в решительную минуту он задергивает занавес.
Так, сама не ведая, она приблизилась к пониманию трудно формулируемой истины о том, что любовь всегда больше самой себя. Любовь представлялась увлекательной, но лишь в той мере, в какой ее невозможно было себе представить. Все, о чем она знала,— а ей казалось, что по крайней мере физическую процедуру она знает досконально, — возбуждало любопытство, смешанное с отвращением, но как бы ни было раздражено ее воображение, его подстрекало лишь любопытство. Отсюда был один шаг до того, чтобы осознать еще одну истину: что любовь есть бесконечное приближение к чему-то неосуществимому; еще немного — и она поняла бы, что окончательное осуществление любви есть смерть.