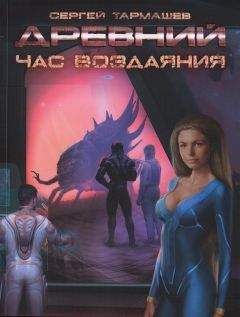Но теперь, когда отнят был у меня внутренний огнь, что некогда раскалял каждое слово, слетавшее с моих уст, и придавал даже самым малым речам моим великую силу, я почувствовал: все же искра его, крошечный лампадный огонек, что мигает синим глазком, готовясь сорваться в небытие с устало поникшего фитилька, не вовсе погас во мне — опутанный прихотливо переплетенными нитями моей судьбы и задутый гуляющими средь них сквозняками невзгод. В детстве еще стали наплывать мне в память слова, когда — то произнесенные мною, перепетые и украшенные многими поколениями слышавших меня и тех, кто слышал того, кто меня слышал. Я просыпался ночью и видел гроздья слов в виде разноцветных облаков, обнимающих друг друга и порождающих из этих объятий новые, еще более причудливые формы; то они представлялись мне будто пестрые камешки в шкатулке моей матери, которыми она разрешала играть мне, и складывались прямо в воздухе из них прихотливые узоры, которые завораживали меня своею причудливостью, но смысл которых я не всегда понимал до конца.
Попросту говоря, к окончанию гимназии я стал все серьезнее и со все возрастающим в моей душе благоговением отдаваться поэзии и, будучи уже в университете, приступил ко вполне серьезному писанию. До поры эта потребность, ставшая страстью, боролась у меня с не менее страстной потребностью в театральном деле — разного рода лицедейство, участие в любительских спектаклях (как и стихотворчество) было необыкновенно модным в те годы. Однако, мало — помалу стал я все более посвящать времени и души стихам и вскоре даже напечатал свой первый лирический сборник — не вполне совершенный по форме, но необыкновенно любимый мною на протяжении многих лет. История наполнивших его стихов неразрывно связана с еще одним — а пожалуй — и самым главным событием моей человеческой молодости, определившим затем судьбу мою на многие годы.
На следующее же лето после такой нежданной и обжигающей встречи с моей, казалось, давно затерявшейся в извилистых рукавах времени спутницей, после вызванного ею смятения чувств, после тайных торопливых свиданий, долгих разлук и — в их продолжение — растекающейся по всей моей жизни скучной серости и давно опостылевшего мне лицемерия; после пыльной и суетливой весны, и неизбежного отъезда в имение, где пребывание, кажется, началось со скуки и тоски — меня почти насильно спровадили к соседям — в усадьбу, принадлежавшую университетскому знакомому деда, знаменитому ученому, мировому светилу и большому, как говорили, чудаку.
Кажется, это было в начале июня. Я приехал туда на белой моей лошади и в белом кителе со стэком. Меня занимали разговором в березовой роще: какая — то — не то родственница, не то гувернантка и — дочь чудака — профессора, которая… Которая сразу произвела на меня сильное впечатление. Я был франт, говорил изрядные пошлости — она хмурилась, отвечала скупо; вскоре даже отговорилась каким — то неотложным делом, повернулась и ушла.
Я остался погостить несколько дней. Что влекло меня к этой странноватой барышне, не отличавшейся особой красотой, или даже стройностью фигуры — впрочем, с изумительной гривой золотых волос, которые одни лишь казались целым сокровищем — я не понимал, да и не старался понять. Я старался если не завести беседу, то хотя бы попасться ей на пути, чтобы сказать что — нибудь донельзя банальное — она хмурилась и отделывалась от меня так скоро, как только позволяли приличия; я проводил часы у ее окна — и, вероятно, выглядел при этом преглупо; в имении, как это бывало обычно, жил еще некий студент, вихрастый, похоже, из инородцев — я ревновал к нему. Словом — должен признаться, что разыгрывал тогда потерявшего всякий разум фата до последней запятой, не упуская ничего. Дни проходили, как обычно проходят дни праздных молодых людей летом в усадьбе родственников, или знакомых. Мы, разумеется «представляли» — без этого летняя жизнь в имении немыслима — разыгрывали в сарае пару модных пьес, сцены из классики. Происходила декламация; я сильно ломался, но влюблен был уже страшно и фальши не замечал. Кто — то из гостей делал наши фотографические снимки недавно привезенным из — за границы аппаратом: я видел их после — они ужасны.
Имя. Просто слово. Вот что — возможно, против моей воли — приковало меня к этой девушке, еще совсем юной, но уже, кажется, что — то понимавшей в жизни и в своем происхождении, истинная правда которого так и осталась загадкой даже для меня, однако — ничего, совсем ничего не понявшей в том, отчего молодой красавец — что всеми было признаваемо — франт, на которого еще в отрочестве заглядывалась не одна гимназисточка старших классов — приковался сердцем к ней, почти дурнушке, с широким, хмурым и неженственным лицом, сутуловатой, похожей скорее на плюшевого мишку, чем на обольстительницу мужских сердец… Лишь имя ей было — Любовь.
* * *
Лето как — то очень быстро закончилось; все оно прошло под знаком этого знакомства и неразберихи чувств, которое оно во мне вызвало — я понял, что уже не принадлежу себе вполне; странная девушка, рожденная в краю, сплошь населенном самыми причудливыми и по большей части гадкими тварями, вечно дрожащими в безумной надежде скрыться от разоблачения и неминуемого — если не уничтожения, то, по крайней мере, изгнания из мира во тьму внешнюю — странное, зримое воплощение слова, что нес я некогда всем странам и народам — приобрела надо мною власть, какой не знал я с самой поры своего многовекового служения. Именно тогда и начали появляться стихи, все обращенные — не к Ней самой — а к Имени Ее, к тому, чем стала Она для меня; слова, выражающие новое повеление, отданное мне — на этот раз Ею.
…И был мне сон вещий. Что — то снова порвалось во времени, и ясно явилась мне Она, иначе ко мне обращенная, — и раскрылось тайное. Я видел, как отходила семья, а я — внезапно остановился в дверях перед Ней. Она была одна и встала навстречу, и вдруг протянула руки и сказала странное слово туманно о том, что я — с любовью к Ней. Я же, держа в руках чьи — то чужие стихи, подавал Ей, и вдруг — это уж не стихи, а мелкая ничтожная книга — я ошибся. Но Она все протягивала руки, и занялось, запылало, будто прежде, сердце. И в эту секунду, на грани ясновиденья, я, конечно, проснулся.
Но теперь, теперь осознал я вполне и захотел положить основание мистической философии моего духа, что вновь шевельнулся и начал восставать в то лето будто от тяжкого забвения. Зыбко и темно было все до того — как бывает ночью, но в предрассветные уже часы — однако определенным началом стало выступать из их тумана только одно: женственное. Заря нового века вставала надо мною и целым миром незримо, и в той — недаром алой, что означало также: «красивой», «прекрасной» — заре провидел я не только лишь пламень пожаров и багряные океаны невинно пролитой крови, но — чудную улыбку алых любящих губ, нежно целующих пробуждающееся утреннее небо. Мне захотелось дать обоснование, доказательство присутствия этого сердцем почувствованного женственного начала — в философии, теологии, изящной литературе, религиях; и с той самой поры стал я рыцарем — менестрелем, посвятившим себя воспеванию этой новой религии женственности.
Неожиданно вспомнил я тогда слова Лили, сказанные давно уже, ранним утром первого нашего настоящего знакомства в нашей… нашей ли? маленькой квартирке, в маленькой благополучной стране далеко отсюда… «Ты принадлежишь теперь незримой касте воинов, — говорила она тогда, — кто стремится утвердить свое превосходство над другими, или природою, или просто — самим собой…» И еще добавила: «К сожалению», — грустно и будто бы укоризненно. «Почему?! — думал я теперь. — Да, я наконец воин Ее великого воинства, что пойдет прославлять Ее не огнем и мечом, но — песнею. Я нашел, Лили, свое оружие — это моя песня, мои стихи — и это самое могучее оружие, которое я только мог найти, и мог найти только в этой стране, этом краю, что, казалось, веками произращивал его из своей суровой природы — как я мог не понимать этого раньше?»
Стихи мои были — молитвы. Сначала вдохновенный поэт — апостол слагает их в божественном экстазе, и все, чему он слагает их — в том кроется его настоящий бог. Тьма не может смириться с этим и уносит его — но и в ней находит он опрокинутого, искалеченного — но тем все милее — бога. А если так, есть бог и во всем — не в одном небе бездонном, а и в «весенней неге», и в «женской любви». Вот таковы стихи. Таково истинное вдохновение. Об него, как об веру, о «факт веры», как таковой, «… разбиваются волны всякого скептицизма…». Еще, значит, и в стихах мы видим подтверждение (едва ли нужное нам) витания среди нас того незыблемого Бога, Рока, Духа, о Ком «рече безумец в сердце своем: несть Бог». Есть! Есть Бог — и вот благодать его (снова женственная субстанция!) растворяется вокруг нас, одушевляет и вдохновляет нас, и наполняет каждую малую былинку и каждое существо в этом мире, сколь бы мало и бесполезно оно ни казалось нам. Так думал я тем летом, и странное счастье — которому на первый, неглубокий взгляд и не было никаких особенных причин — пронизывало меня и в ответ заставляло светиться, будто все еще наполнялся я тем солнечным светом божественного огня, что был заключен когда — то в моей груди.