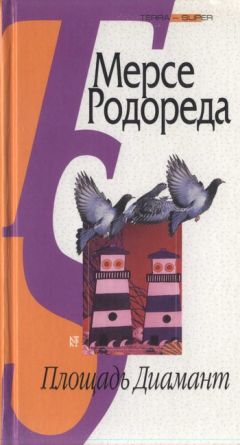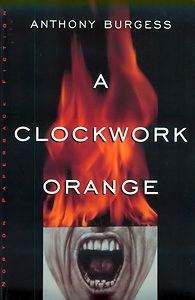Он ждал на галерее между двумя колоннами, которые шли снизу до шестого этажа. И откуда-то сверху, как раз, когда я входила, бросили вниз самолетик из газеты. Хозяин поймал его на лету и говорит — здесь лучше ни с кем не связываться, а то назло станут бросать что ни попадя. Я сразу заметила у него порез возле уха, значит, думаю, брился к моему приходу. На свету, хоть и без солнца, а видно, что лицо у него в оспинах. Вмятинки — круглые, и кожа там светлее, будто совсем новая.
Проходите, пожалуйста, говорит. И пропустил вперед, а мне все в доме как в новинку, прямо не узнаю. Потому что когда лавка открыта, какой-никакой свет в комнату и через шторку идет. В столовой люстра горит, эта люстра из половинки белого фарфорового шара дном книзу и держится на шести металлических цепочках. А вокруг шара стеклянные подвески, тоже белые. Пробежит наверху кто у соседей, подвески обязательно стукнутся одна о другую и звенят, как музыка. Мы прошли в столовую и сели за стол.
— Угощайтесь печеньем!
Поставил передо мной квадратную коробку с ванильным печеньем, несколько рядов. Я отодвинула, спасибо, говорю, не хочется. Хозяин первым делом спросил про детей, и когда у нас начался разговор, он эту коробку с печеньем в буфет поставил, откуда достал, а я всем нутром чувствую, как ему, бедному, трудно говорить и делать все, что он говорит и делает. Смотрю на него — ну точно альмеха[38] в раздавленной раковине, они, когда раздавленные, тоска смотреть. Он молчал, молчал, а потом — вы меня простите, у вас в воскресенье самые дела и с детьми надо… В этот момент наверху кто-то пробежал, и подвески — дзинь, дзинь! Мы оба глянули на люстру: она покачивается из стороны в сторону, и когда подвески затихли, я возьми и скажи — если у вас ко мне разговор, то и скажите, что думали сказать. А он — вы не представляете, как это трудно. Положил обе руки на стол, сцепил все пальцы, да так, что косточки побелели, и начал говорить. Про то, что у него в голове мысли совсем невеселые, что живет он без затей, весь день за прилавком, отдыха не знает, старается, чтобы все шло путем, чтобы из мешков особо не крали, чтобы крысы их не прогрызли, а то один раз крыса забралась в мочалки, все перепачкала и в одной мочалке устроила гнездо. Убей он крысу вовремя, так нет, недоглядел и пустил эти мочалки в продажу. Служанка из соседнего дома купила две мочалки, а через какое-то время приносит их обратно. Мало того, что сама неприятная, хоть улыбочка на лице, а тут еще с хозяйкой пришла. Ну и пошло — скажите, не досмотрел, так ему и поверили, просто-напросто решил продать загаженные мочалки — мочалки для посуды! — с крысами…
Помолчал, а потом снова про мочалки, мол, он к слову, для примера, ведь в лавке нужен глаз да глаз, крысы, они так и норовят в дом пробраться.
У меня, говорит, жизнь обычная, нет в ней ничего завидного, в голове одни дела, да как денег подсобрать на старость. Я, говорит, часто думаю, что со мной будет в старости, хочется, чтобы к тебе с почтением, а стариков почитают, когда они при деньгах… Нет, говорит, я не из тех, кто во всем себе отказывает. Но о старости не забываю: волосы-зубы повыпадут, сил не станет ботинки надеть, а то и ноги откажут. И что тогда, в богадельню проситься? Зря что ли, я всю жизнь горбатился? Расцепил руки, сунул два пальца в вазу, которая чернильное пятно закрывала, и отщипнул кусочек искусственного мха — он между цветами лежал, — а потом отвел глаза и говорит, что я и мои дети у него из головы не выходят и вообще он верит в судьбу. А просил прийти именно в воскресенье, чтобы поговорить в спокойной обстановке, потому что хочет просить меня кое о чем, но не знает как, в том смысле, что не знает, как я на это посмотрю… И тут снова наверху чей-то топот и подвески — дзинь, дзинь, а он улыбнулся и сказал: того и гляди — проломят нам потолок… «Нам», вроде это уже и мой дом… И еще сказал, что он один на всем белом свете. Совсем один, ни родителей, ни родных, ни семьи. Один, как дождь на ветру. И что он — человек порядочный, честный, и не надо мне опасаться того, что он скажет… Вот, говорит, живу совсем один, а зачем одному все это? Помолчал, помолчал, потом поднял голову, посмотрел мне в самые глаза и говорит: мне бы жениться, но семьи, в смысле — своей, понимаете, у меня теперь быть не может…
И ударил кулаком по столу изо всех сил. Так и сказал слово в слово: семьи, «в смысле — своей». И давай катать мох, скатанный шариком. А потом встал, подошел к разрисованной японке, постоял, вернулся и снова сел. Нет, еще не сел, только садился, и спрашивает:
— Пошли бы вы за меня?
Этого я и боялась. Хоть чуяло мое сердце, хоть знала, к чему все идет, а так и оцепенела от его слов. И не так, чтобы поняла насчет «своей семьи».
— Я — свободный, вы — тоже, вашим детям нужна опора в жизни, а мне одному делать нечего на этом свете.
Встал из-за стола, волнуется больше моего, через штору с японкой туда-сюда, туда-сюда, раза два или три… Наконец сел и говорит, что, мол, я не представляю, какой он человек, не представляю, к нему все с уважением… И что он ко мне с раскрытым сердцем, с симпатией. Что запомнил с самого первого дня, когда я за викой пришла. И что видел, какие тяжеленные сумки я таскала. Еле-еле!
— Вот и думаю: вы совсем одна, дети взаперти, тоже одни, пока вы на работе. А я бы все сделал, все устроил, как положено. Но если вы против, значит, никакого разговора у нас не было. Только вы должны понять: у меня самого не может быть семьи, я ведь после ранения на это не годный… Нельзя мне, говорит, Наталия, обманывать вас в таком деле.
XL
Вернулась к себе ни жива, ни мертва. Вроде нет сил кому-то душу открывать, даже к сеньоре Энрикете ноги не идут, а в десять часов вечера не выдержала, схватила детей и к ней, куда еще… Она уже волосы расчесывала, спать собиралась. Я поставила детей у картины — смотрите своих страшил, а сама закрылась с ней на кухне. Рассказала все как есть. Похоже, говорю, поняла его слова, но как-то не совсем. А она мне — нет, ты все правильно думаешь, его на войне покалечили, ясное дело. Он и хочет на тебе жениться, раз ты с детьми, женился, вот тебе и семья и дети. Бездетные мужчины, они чаще всего ни то ни се, хуже пустой бутылки в море.
— А как детям сказать?
— Так и скажешь, когда решишься. Да и что они вообще понимают?
Несколько дней ходила как в дурмане, все думала, решалась. И когда решилась, наконец, — сто раз в голове то да, то нет, — пришла к нему и сказала, что согласная. А долго не приходила с ответом, потому что все нежданно-негаданно, что чем больше я думала, тем труднее было решиться, вот дети, как теперь перед ними, они сообразительные не по годам, война, голод, все стали понимать раньше времени. Он взял меня за руку, а рука у него дрожит. Вы, говорит, не представляете, Наталия, какой у меня после ваших слов сад расцвел в душе… И я пошла убираться. Пошла убираться, а сама встала и стою, там, где солнышко на плитках, у двери на галерею. С абрикосового дерева снялась какая-то птица, скользнула точно тень. И откуда-то сверху во двор полетела целая туча пыли. На буфете, где под колпаками стеклянными лежат цветы, откуда не возьмись — паутина, тянется от колпака к колпаку. Из-под деревянного ободка, прямо к острому концу раковины и под другой колпак. Я поглядела на эту паутину, а потом на все, что будет моим домом, и у меня к горлу подступил комок. Потому что с той самой минуты, как я сказала — да, мне захотелось закричать — нет. Все не по душе. Все! И лавка, и коридор не коридор, а кишка темная, и вдобавок ко всему — крысы, которые лезли оттуда, где трубы. В полдень я сказала детям. Нет, не так, что, мол, выхожу замуж, а что скоро переедем в другой дом, где живет один дядя, очень хороший, он все сделает, чтобы они пошли в школу. А дети, ну хоть бы что сказали — ни слова. Понять-то, похоже, сразу поняли. Спать легли молчком, и глаза у обоих грустные, обиженные.
Ровно через три месяца после того воскресенья, рано утром мы с Антони пошли в церковь и обвенчались. И он стал у нас Антони-отец, а мой сын — Антони-сынок, пока не догадались звать его просто Тони.
До того, как нам пожениться, он все, ну все сделал по моему вкусу. Сказала, что хорошо бы детям никелированные кроватки, какая у меня была до Кимета — пришлось ее в войну продать, — и тут же две кроватки. Сказала, что хорошо бы кухонный гарнитур подвесной, и, пожалуйста, — гарнитур. Новую скатерть захотела вместо старой, с чернильным пятном, на тебе новую, без пятна. И еще я ему сказала, что я хоть и бедная, но очень впечатлительная, щепетильная. Не могу взять в новый дом ни одной вещи из прежнего дома, даже постельное белье — не могу. И все, все у нас было новое. А когда я сказала, что я бедная, но по характеру — щепетильная, чувствительная, он сказал, что и он — такой же. И это чистая правда!
XLI
И дети стали учиться. У каждого своя комната с окном, кровать с блестящими шишечками, одеяло желтое пуховое, белое тканое покрывало, столик светлого дерева и креслице. На другой день, как мы поженились, Антони сказал, что больше видеть не хочет меня за уборкой, и что хорошо бы подыскать женщину, пусть приходит утром и вечером, а если надо постоянную — пусть постоянная. Не затем, говорит, я женился, чтоб ты стиркой занималась, а чтобы всем в нашей семье было хорошо. Чтобы у нас все было в достатке. Все! Одежда, посуда, приборы столовые, даже мыло туалетное. В спальне зимой холодно, да и летом не тепло, так что мы всегда, кроме как в самую жару, спали в толстых шерстяных носках.