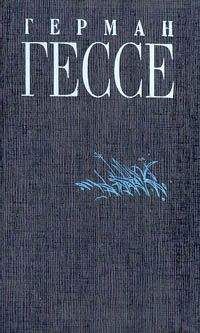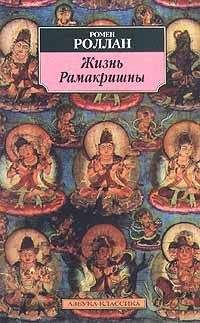Вот он уже стоит на платформе, с зонтиком, и дорожным мешком, «и отец подвергает его тщательному осмотру.
Сообщение эфора превратило разочарование и возмущение господина Гибенрата в безграничный страх Он уже представлял себе своего неудачливого сына в ужасном состоянии. Но теперь он нашел, что мальчик хотя и худ и немного бледен, но все же стоит на своих двоих. Это несколько утешило его. Но самым ужасным был все же тщательно скрываемый страх перед душевной болезнью, на которую намекали врач и эфор, В семье Гибенратов никто до сих пор не страдал такого рода заболеваниями и о душевнобольных говорили обычно с усмешкой или с презрительной жалостью, как о «психах», а тут вдруг его Ганс выкинул такую штуку!
Первый день мальчик был рад, что его не встретили упреками. Затем он обратил внимание на пугливо-робкую бережность, с какой обращался к нему отец и которая стоила ему, по всей видимости, больших усилий. Иногда (он замечал, что отец бросает на него странные, испытующие взгляды, исполненные затаенного любопытства, в разговоре придерживается какого-то фальшивого тона и, стараясь оставаться незамеченным, следит за ним. От этого Ганс сделался еще более пугливым его стал мучить какой-то неопределенный страх перед самим собой. В хорошую погоду он часами валялся в лесу и чувствовал себя при этом совсем неплохо. Порой его поврежденную душу согревал слабый отблеск прежнего ребячьего блаженства, то это была радость при виде цветка или жука, то когда он слушал пение птиц или вздрагивал от шороха вспугнутой дичи. Но все это длилось лишь мгновения. Чаще всего он просто лежал на мшистой земле, голова его была словно налита свинцом, и он тщетно пытался о чем-нибудь думать, пока к нему снова не являлись видения и не увлекали в иные просторы. Почти «всегда его теперь мучили головные боли, а стоило ему вспомнить монастырь или прогимназию как горы книг, бесконечные уроки и домашние задания чудовищным кошмаром обрушивались на него и в разламывающейся голове Ливии и Цезарь, Ксенофонт и алгебраические задачки кружились в дикой и страшной пляске.
Однажды ему представилось, будто друг его Гейльнер лежит мертвый на носилках и он хочет подойти к нему, но эфор и учителя оттесняют его, а когда он пытается все же пробиться к Герману — грубо отталкивают. Кругом стоят не только профессора семинарии и репетиторы, но и директор и штутгартские экзаменаторы, и лица у всех злые и ожесточенные. Вдруг все меняется, на носилках уже лежит утонувший Хинду, а рядом стоит его чудак отец с кривыми ногами и в огромном цилиндре.
И еще одно видение: он бежит по лесу и ищет сбежавшего Германа. Тот все время мелькает вдали между стволов, но как только Ганс пытается позвать го, Гейльнер исчезает за кустами. Но вот наконец он останавливается, подпускает к себе Ганса и говорит: «Знаешь, а у: меня есть милая». Тут он неестественно громко хохочет и снова исчезает в кустах.
Вот Ганс видит, как худой красивый человек выходит из лодки. У него такие спокойные, прекрасные, божественные глаза и миротворные руки. Ганс бежит ему на встречу. Но вдруг все расплывается, и Ганс понимает, кто это был. Он вспоминает строки из евангелия «Εύθυζ επιγνόντεζ αύτον περιέδραμον». Но теперь ему во что бы то ни стало надо вспомнить, какая это форма περιέδραμον и как будет этот глагол в неопределенном наклонении, в Прошедшем и будущем временах. Ганс спрягает его в единственном и множественном числи, и, как только запинается, его от страха прошибает пот. Придя в, себя, н чувствует, что голова его вся изранена, и, невольно скривив рот в полусонной виноватой улыбке, он тут же слышит возглас эфора: «Что это еще за глупая улыбка! Будто вам нечего больше делать, как улыбаться!
Состояние Ганса не улучшалось, скорее даже ухудшилось, но изредка выпадали и хорошие дни. Домашний врач, который в свое время пользовал матушку Ганса и установил ее смерть, а теперь навещал отца, так как гот страдал приступами желчи, каждый раз, когда (обследовал Ганса, вытягивал физиономию и со дня на день откладывал окончательный диагноз.
Только в эти дни Ганс вдруг осознал, что последние два года в прогимназии у него не было друзей. Его товарищи по классу уехали в другие города или поступили в ученики к ремесленникам. Иногда он их видел на улице, но ни с кем его ничто не связывало, никого он не навещал, да и не было до него никому никакого дела. Раза два с ним приветливо заговаривал директор. Учитель латыни и пастор, встречая его на улице, доброжелательно кивали ему, но, в сущности, Ганс их больше не интересовал. Ведь он уже не был сосудом, который можно заполнить чем угодно, не был он и пашней, которую можно засеять любыми семенами. А потому и не было уже смысла тратить на него время, печься о нем.
Возможно, Гансу пошло бы, на пользу, если бы пастор уделил ему немного внимания. Но что он мог дать? Вкус к науке или по крайней мере стремление к ней он в свое время привил Гансу, ну, а большим он и не располагал. Не был он и тем священником, чья латынь невольно вызывает улыбку и чьи проповеди списаны с хорошо известных источников, но к которым мы, случись беда, так охотно обращаемся. У них ведь такие добрые глаза, и они знают столько хороших слов, облегчающих наши страдания! Папаша Гибенрат тоже не (был способен к роли друга и утешителя, хоть и старался, как мог, скрыть «от Ганса свое раздражение и разочарование.
Ганс чувствовал себя всеми «покинутым, нелюбимым. Он подолгу сидел в<еаду, греясь на солнышке, а то лежал в лесу, погрузившись в свои мучительные мысли и лихорадочные грезы. Чтение ему не помогало — сразу же начинали болеть глаза и голова, и из каждой книги, стоило только открыть ее, вырастал призрак монастырской жизни, и страх загонял его в какие-то жуткие углы, где заходилось дыхание и где чьи-то горящие глаза заставляли его цепенеть от ужаса.
В довершение всего больному покинутому мальчику стал являться и другой призрак и, как некий фальшивый утешитель, постепенно сроднился с ним, сделался необходим, То была мысль о смерти. Ведь так легко достать какое-нибудь огнестрельное оружие или прикрепить где-нибудь в лесу петлю. Почти ежедневно, как только, он уходил в лес, подобные мысли преследовали его; он уже выискивал уединенные места и в конце концов нашел уголок, где хорошо было бы умереть и который он окончательно определил местом своей кончины. Все вновь и вновь он посещал его, сидел там, и испытывал какую-то необычную радость, представляя себе как его скоро найдут здесь мертвым. Он выбрал и сук для петли, проверил, достаточно ли он прочен, — больше никаких затруднений не предвиделось. Наконец он написал, правда с большими, перерывами, и письма, которые должны были найти при трупе: коротенькое — отцу и очень пространное — Герману Гейльнеру.
Эта приготовления и уверенность в принятом решении оказывали благодатное действие на душу Ганса. Сидя под роковым суком, он пережил не один час, когда чудовищный гнет оставлял его, и появлялось почти радостное, легкое чувство. Вскоре и отец заметил некоторое улучшение в состоянии сына, и Ганс испытывал немалое удовольствие от того, что тот, собственно, радовался настроению, причиной которого была уверенность в его скором конце.
Но почему он уже давно не повис на облюбованном суку, Ганс и сам не знал. Мысль эта вполне созрела, смерть была делом решенным, что порождало даже некоторое удовлетворение, и Ганс в эти последние дни не отказывал себе в удовольствии испить до дна свои одинокие мечты, всласть погреться на солнце, как это охотно делают люди перед длительным путешествием. Ведь отправиться в путь он мог в любой день, все уже было приведено в порядок. Он ощущал какую-то особую горестную сладость от того, что по своей воле оставался еще среди старого окружения, и любил заглядывать в лицо людям, которые не имели никакого представления о его страшном решении. Встретив доктора, он думал: «Ну, погоди, ты еще увидишь!»
Судьба, дав Гансу порадоваться этим мрачным намерениям, приглядывалась, как он день ото дня черпает из чаши смерти по нескольку капель наслаждения и жизненных сил. Не то чтобы она очень уж дорожила этим искалеченным существом, но, прежде чем кануть в вечность, оно должно было завершить свой круг, хоть немного отведать горькой сладости жизни.
Ганса стали реже посещать мучительные, неотвязные видения, уступив место усталому равнодушию, вялому настроению, в котором он бездумно пребывал целые часы и дни, безразлично глядя в синеву. Порой казалось, что он вовсе впал в детство и бродит по земле; точно лунатик. Однажды вечером, сидя под сосной в таком вялом, сумеречном настроении, он мурлыкал себе под нос, чуть ли не в двадцатый раз, старинный стишок, запомнившийся ему еще во времена прогимназии: