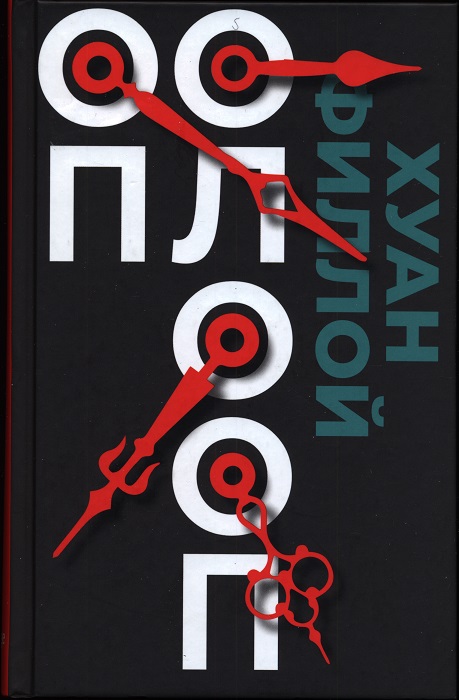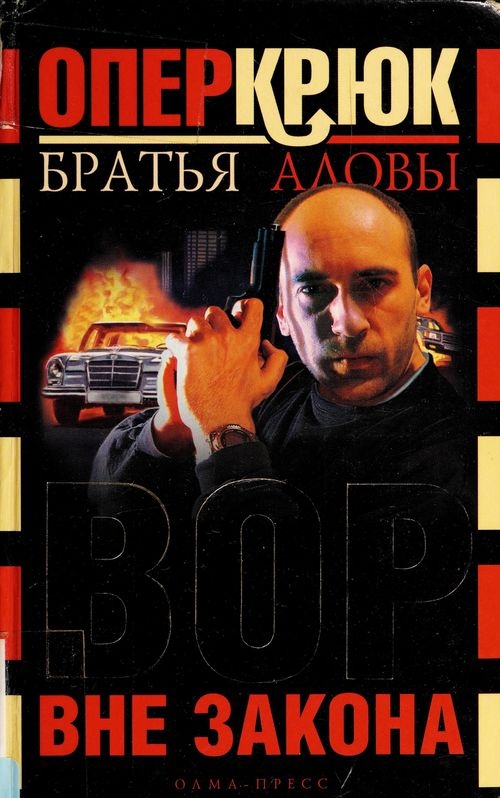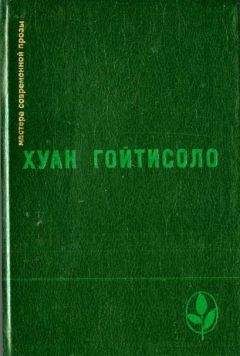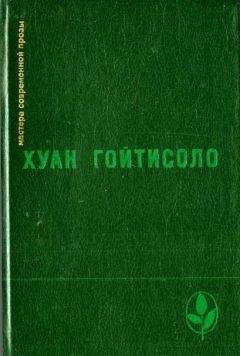— Не очень понимаю, что вы имеете в виду, — перебил его Мариетти.
— Я неясно выразился. В случае народов с берегов Балтики, к любви и свободе следует применять особый коэффициент. У нас страсть всегда держится в рамках приличий. Здесь же любовь животна, а свобода терниста. И порядок тоже другой. Там он зиждется на естественном отказе каждого от собственной воли ради коллективного блага. Там всегда правят бал альтруизм и честь. Здесь люди грубее и заботятся только о себе. В результате поверхность социума покрывается рытвинами и выбоинами, становится труднопроходимой. Я, честно признаться, поначалу спотыкался на каждом шагу, как хромой…
— Кстати, о хромоте. Переводя «Claudus in via…»
«…Antecedit cursorem extraviam».
…Вы «оступились», не сказав ни слова о хромоте…
— Ваша правда. Мой перевод получился образным. Дословный звучал бы примерно так: хромец, идущий верной дорогой, придет раньше сбившегося с пути бегуна.
— Вот теперь я с вами согласен. Обожаю трех Клодов…
— Не пойму, вы все-таки сутенер или философ? — не выдержал студент, вызвав взрыв смеха.
— И то, и другое. Сутенер, когда снисхожу до общения с вами, философ, когда поднимаюсь над собой, чтобы беседовать с Опом Олоопом.
— В точку!
— Я сказал, что обожаю трех знаменитых «хромцов» Франции: Клода Бернара, Клода Моне и Клода Дебюсси. Вы, Оп Олооп, как человек, который подходит к людям с Пифагоровой меркой, понимаете их масштаб. И довольно об этом. Простите, что прервал вас.
— О чем вы! Я тоже их обожаю. Хотя предпочитаю женщин-хромоножек: меняя их мускулатуру, этот физический недостаток доставляет немало необычных ощущений ценителям сладострастия… Монтень, большой знаток вин и девиц, был единственным из всех, кого я знаю, кто успел заметить это до меня. Но довольно «хромать»… Продолжим. В Париже я прожил четыре года в квартире на цокольном этаже дома в Монпарнасе. Я делил ее с одним янки, который провел все четыре года в беспробудном пьянстве, отмечая заключение мира. Он был невыносим. В тысяча девятьсот двадцать втором году его отец, табачник из Кентукки, приехал, чтобы забрать сына домой, но тот, выстроивший целую систему для празднования: сначала «La Cigogne», затем «La Coupole», потом «Vicking’s» и, наконец, «La Rotonde», воспротивился возвращению. Ежемесячные переводы прекратились. Чтобы перевоспитать пьяницу, отец выбил ему через знакомого сенатора должность при Американской комиссии по памятникам войны. Алкоголику не оставалось ничего, кроме как согласиться. Но он заключил со мной сделку. Мы делили с ним зарплату пополам. Я выполнял за него работу, а он продолжал праздновать заключение мира… Отсутствие контроля благоприятствовало нашему плану. А когда все вскрылось, качество моей работы уже не вызывало никаких сомнений. В результате я получил должность начальника архива Американской службы регистрации захоронений, конторы, в которой регистрируются могилы солдат США, погибших во Франции. В лоне этой организации, также ответственной за сохранность кладбищ и памятников войны, мое аритмософичное призвание обрело новый импульс для дальнейшего развития метода. Я превратился в макабрического полководца. Целая армия погребенных, восемьдесят тысяч солдат экспедиционного корпуса, подчинялась моим приказам. Я командовал мертвыми там, где союзное командование устроило мясорубку живым.
Оп Олооп замолк.
Камнем рухнул в молчание.
Поначалу, когда Оп Олооп только возобновил свой рассказ, сотрапезники слушали его словоизлияния настороженно, но затем поддались силе его убеждения. Его речь более не походила на вымученную софистику, призванную прикрыть случайную рану, нанесенную некстати оброненными словами. Его слушали затаив дыхание, стараясь не шуметь столовыми приборами. И все, за исключением сутенера, напитались его тоской, когда голос замолк, а взгляд устремился вдаль.
— Глоток «Mercurey»? — предложил Гастон, протягивая бутыль.
Молчание.
Когда человек бросается вниз с вертикального эксарпа самого себя, водоворот его эмоций и воспоминаний не исчезает при ударе. Больные, искалеченные слова разбегаются в стороны или повисают дымкой сумасшествия в воздухе.
По прошествии некоторого времени он пробормотал:
— Вино — кровь; кровь — вино. Нет. НЕТ! Солнце: Мозель, Шампань…
Были ли эти сказанные тоном медиума или жреца слова хитрой уловкой или отблеском тайны? Никто не знал и не узнает этого. Иные психические процессы столь загадочны, что люди просто не осознают их. Причуды духа иногда оказываются его истинным состоянием, проявляя себя в точках высшего подъема и низшего падения, и никакому вымыслу такое и не снилось. Иератическая поза Опа Олоопа была подлинной, malgré lui. [39] Но за настоящей тайной пряталась хитрость, ведь тайна — не более чем энтелехия, скрывающая свою простоту за пышностью интригующих одеяний.
В какой-то момент он, казалось, был готов раскрыться. Присутствующие обратились в слух. Все жаждали вновь услышать его болезненно чарующее повествование. И он заговорил низким, с придыханием голосом, в который вплетались приглушенные колокольные нотки:
— Вино — кровь, кровь — вино! Я видел крестьян, которые, поднимая стакан с красным домашним вином, крестились и плакали, искренне веря, что пьют кровь своих детей. Я видел землю, изъеденную воронками от снарядов, в которых трупы переплетались подобно виноградной лозе. Видел грозди светловолосых голов, с которых на бесплодную землю стекал кровавый сок, чтобы потом превратиться в пену шампанского вина. Прозрачным утром на границе с Мозелем я видел, как из горящего сада подобно призрачным скелетам поднимались окончившие свой путь жизни. И повсюду, куда ни кинь взгляд, диадемы из лозы и колючей проволоки, зеленая плоть молодости, в которой сбраживаются тени, позор и уродства. Поэтому вино пьянит меня прежде всего горечью и лишь потом — забвением. Я знаю, что в нем перерождаются человеческие души, и каждый глоток раздирает мне горло тоской, а затем проливается на него бальзамом забытья.
Долгое молчание.
Оп Олооп в четыре глотка осушил свой бокал.
Остальные последовали его примеру.
Ни одна литургия не давала такого ощущения благодати. Гости благоговейно молчали, на них снизошла «благодать», о которой говорили пританы на холме Пникс.
И все тем же низким, с придыханием голосом, в который вплетались приглушенные колокольные нотки, он продолжил:
— Вино — кровь, кровь — вино!.. На кладбищах Эне-Марн, Уаз-Эне, Мёз-Аргон, Соммы, Сюрена, Сен-Мишеля и Фландрии я разливал в землю урожай смерти. Более тридцати тысяч идентифицированных тел покоится под цветущими лугами, плоть, распустившаяся в шрапнельно-картечной муке. Почти два года я был полководцем мертвых. С какой кротостью повиновались мне останки! Как беспрекословно кости и обноски выполняли приказы! Они словно отдавали свой долг, экономя мне силы. Гнилые щепки цевья, взорванное нутро фляги, кровавая ржавчина на прикладе указывали на конкретную смерть. Одну из всего многообразия смертей. И я строил и строил их ровными рядами, чтобы победить саму смерть, в неподвижные батальоны, противостоявшие неочевидному варварству и массовому смертоубийству. Извращенная дисциплина, непреходящая злоба, несправедливость, взращенные оружием, отступили перед мистическим таинством моего порядка. Каждая карточка Американской службы регистрации захоронений была победой над непростительным забвением этих людей. Каждая карточка документировала обязательство, взятое на себя жизнью, запретить войны. Но обязательство это не выполнялось! Зверь Апокалипсиса снова пасется средь четырнадцати тысяч двухсот крестов кладбища Романь-Су-Монфакона, шести тысяч двенадцати Урка, четырех тысяч ста пятидесяти двух Тьокура… Потому что слава, растущая в тени «героев», — его любимая снедь!.. Какая низость — подталкивать людей к опасной жизни! Какая низость — славить героические порывы Баярда вместо благоразумия Фабия Кунктатора!.. Вы не представляете себе, как захватывающе величественны военные кладбища. Эскадроны крестов строятся прямыми рядами и уходят за горизонт. Геометрия страданий, повторяющаяся на доске ночи. Разложение, прикрытое на какое-то время лилиями… Вы не представляете себе, как патетичны миллионы людей, уложенные в строгом порядке под мраморными и цементными плитами. Больная фантазия Марса, переходящая из века в век, чтобы тешить кесареву манию. Неистощимая жалость, распахнувшая объятия… чтобы в них гадили саркастичные вороны… Именно так это и выглядит! Я видел, как Першинг и Фош проводили смотр моего покойного войска, устраивая экскурсию для матерей из «Голд Стар Мазере». Отвратительное зрелище! Ни чуткости, ни уважения: только гордыня. Главнокомандующие гекатомб, они словно пришли, чтобы заставить своих собственных жертв отдать им посмертную честь. И, видя неповиновение истощенных крестов, разливались соловьем о строгой стройности надгробий и военной красоте мемориалов… Чушь! Мне представляется, что те, кто развязывает войны, пытаются этой чепухой замести следы. Более того, они используют матерей, чтобы те помогали им покрывать происходящее, подкупая их декоративной мишурой. Заставляют плясать одураченными под свою дудку, забыв о том, что мир их детей растворился в зловонии и гнили. И что еще хуже, мечтать, в пылу менопаузального национализма, о том, чтобы молодежь рожала новое пушечное мясо. Эти матери глубоко несчастны. Им никогда не следовало беременеть. Когда все вагины мира закроются на замок для продолжения рода, человечество наконец сменит свой гибельный курс. Несправедливо, что чистая любовь становится удобрением для ненависти. Несправедливо, что они оплодотворяют себя порочным семенем Навуходоносора и Александра в эпоху, когда pedigree есть даже у овса!.. Толпы, приветствующие патриотизм. Блестяще-зеленые поля. Недостойный camouflage! Производители оружия, Маким Викерс, Армстронг, заботятся таким образом о своем бизнесе. Они первыми додумались стереть следы преступления с лица земной коры и с мякоти совести. И отдали приказ: пахать, пахать, пахать… Природа врет, утробы врут, мозги врут. Все ваши мечты: мир, труд, гармония — падут жертвой их жажды уничтожать. Я слышал их грязные речи. Я! Это было в Шато-Тьерри на знаменитом Холме 204, ставшем последним пристанищем тридцати тысяч мальчишек, служивших в американской армии. Там, с вершины холма, ставшего напоминанием о холокосте, они, директора консорциумов «Bethlehem Steel Building Company» и «Creusot Schneider», в очередной раз говорили о любви к родине и величии самопожертвования. И одновременно с этим их торговые агенты тайно продавали оружие потенциальному противнику, прописывая в договорах эксклюзивное право на изготовление такого оружия… Сначала заводы, а потом уже все остальное… И они продолжают двуличничать, украшая ярмо и увешивая наградами груди… Camouflage! Душа Ля-Фонтена, обитавшая в этих некогда светлых местах, научила их рассказывать басни. И моя покойная армия, иронично улыбаясь, прижимала ее к себе в своих закрытых окопах… Окопах! No man's land! [40] Пещеры призраков. No man's land! Ужас, голод и язвы. No man's land! Кусок ада. Вши, удушье и цинга. Мне знакома твоя глубокая трагедия траншей и руин. Безумный страх и внезапное сумасшествие. Я говорил с тобой, и ты отвечала мне. Ты знала, что я тогда был чиновником скорби. Знала, что я ненавидел бесполезный performance чести. Знала, что я бродил одиноко средь теней твоих владений, неустанно ища. И ответила мне: вот они! Подними их! Отпечатай их в людской памяти! Занеси их в отчеты всего мира!.. И я поднял их. И они были погребены. Не так, как мне хотелось бы, в вульве своих матерей и в распахнутом рту цивилизации, но в искусственном саду с двумя перкалевыми флажками по бокам… В этом нет моей вины. Мое зеркало разбилось от ужаса. Какие изможденные лица! Призраки, а не люди! Но вот их карточки. Все как положено, все верно. Вот только как исцелить их истлевшие нервы и обескровленные души! В этом нет моей вины. Посмотрите на меня! Я все тот же полководец армии мертвых. Все тот же чиновник скорби. Все тот же статистик, приведший число крестов в соответствие с методичным порядком смерти, выведший все коэффициенты людской солидарности. Ничья земля, посмотри на меня: я — Оп Олооп!