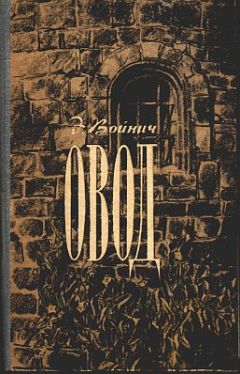— Будь ты проклята, девчонка, ты убила свою мать!
— Нет… нет! — Беатриса, задыхаясь, протянула руки, — Не пугайся…
Глэдис…
С минуту Глэдис смотрела на нее полными ужаса глазами, потом с громким рыданием повернулась и побежала в дом.
Генри опустился на подставку, прижав руку к груди. Он сильно располнел за последние годы, и сердце у него тоже пошаливало.
Двадцать минут спустя Беатриса постучалась в запертую дверь спальни.
— Это я. Открой мне, девочка.
Все еще заливаясь слезами, Глэдис отворила дверь и в отчаянии припала к груди матери.
— Мама… мама, прости меня. Я больше никогда не буду.
Они сели, обнявшись.
— Не плачь, родная. Я знаю, ты не хотела причинить нам боль. Просто ты вышла из себя и не успела подумать, что делаешь.
Глэдис прижимала к глазам скомканный, насквозь мокрый платок. На нее жалко было смотреть.
— Я просто дрянная девчонка. Я так виновата… Ужасно виновата. Но папа сказал, что у меня душа в пятках.
Еще две слезинки покатились по ее распухшему носу: в ней боролись раскаяние и негодование.
— Он не должен был так говорить, мама. Это несправедливо.
— Да, дорогая. Но и с твоей стороны было несправедливо сказать, будто я никогда ему ничего не говорю.
Девочка подняла глаза. Что-то новое появилось в ее лице, кроме покорности и еще не утихшего возмущения. В эту минуту она казалась не по-детски мудрой.
— Даже если б это и было правдой, — мягко продолжала Беатриса, неужели, по-твоему, это великодушно — сказать ему такое при всех?
— Так ведь… по-моему… Мама, но неужели и ты думаешь, что я трусиха?
На этот вопрос надо было ответить с исчерпывающей полнотой.
— Ничего подобного мне никогда и в голову не приходило, — серьезно ответила Беатриса. — Я всегда считала, что храбрость моих детей — это нечто само собой разумеющееся. Но если ты прибегаешь к столь сильным средствам, чтобы доказать такую простую вещь, я, пожалуй, начну сомневаться.
— Нет, мамочка, не надо! И неужели ты думаешь, что я нарочно обидела папу?
— Нет, я никогда не считала тебя бессердечной; а вот логики у тебя, к сожалению, не хватает. По-твоему, это очень жестоко пугать лисицу, когда люди вздумают поохотиться, а сама ты до полусмерти напугала родителей, когда тебе вздумалось пустить пыль в глаза.
— Я не пускала пыль в глаза!
— Нет? Ни чуточки? У тебя и в мыслях не было, как ты будешь великолепно выглядеть, когда перелетишь через изгородь всем на удивленье?
— Ну конечно…
Глэдис вдруг хихикнула. Ей было несвойственно долго пребывать в унынии.
— А как это было чудесно! Он и правда летел совсем как птица. Мама…
Она вдруг выпрямилась: блестящее будущее внезапно открылось ей.
— Как по-твоему, когда я вырасту, я смогу участвовать в скачках?
— Ну разумеется, нет. Так что лучше выбрось это сейчас же из головы и поищи какой-нибудь другой способ пугать людей, если тебе это уж так необходимо.
— Но Дик ведь собирается скакать, как только ему исполнится двадцать один. Он сам сказал. И Фредди Денвере тоже…
— Они мальчики.
— Ну и что же? А почему им можно, а мне нельзя? Я лучше их езжу верхом, гораздо лучше. Почему нельзя?..
— Потому что девочкам не позволяют много такого, что можно мальчикам.
— Но почему? Почему все самое интересное только мальчикам? Это несправедливо, мама. Почему так?
Беатриса тщательно обдумала ответ:
— Мир не мною устроен, девочка, и женскую долю тоже не я придумала. Раз уж ты меня спрашиваешь, могу тебе сказать одно: будь моя воля, я бы все устроила по-другому. Но мир таков, как он есть, и в нем нам приходится жить.
Бог, вероятно, знает, что делает.
С неожиданной горечью она прибавила:
— Во всяком случае, он делает, что хочет.
Она тут же взяла себя в руки. Детям таких вещей не говорят.
Глэдис серьезно смотрела на нее.
— Артур… — начала она и умолкла.
— Да?
— Нет, ничего. Про душу в пятках… Потому я так и разозлилась. Папа сказал про меня, а думал про Артура.
— Папа знает, что Артур не трус.
— А Артур нет.
— Что нет?
— Не знает. Он думает, что он трус, и Дик тоже так думает. Я потому и взбесилась, что это неправда.
— Конечно, неправда.
Мысль Глэдис так усиленно работала, что она даже нос наморщила.
— Мама, помнишь, миссис Джонс обварила ему ногу кипятком?
— Помню. Он держался очень мужественно.
— Но ведь он только притворялся, что ему это нипочем, чтобы она перестала плакать. А на самом деле ему было ужасно плохо.
— Ну конечно. Всякому было бы плохо. Сильные ожоги очень болезненны.
— Так вот, понимаешь… То же самое и когда опасно… когда по-настоящему весело.
— Например?
— Ну когда стреляют, или гроза, или надо скакать без седла, или пройти в лунную ночь по карнизу. Он все это может, но ему от этого только тошно.
Странно, правда? Ему от этого ни капельки не весело.
— А тебе весело?
— Ну да, и всем весело. В прошлом году Дик спросил его, испугался ли он, когда гнедой понес, и Артур сказал, что испугался. Только из-за этого Дик и вообразил, что он трус.
— Дик еще очень многого не понимает.
— Мама, знаешь что? Дик даже не очень виноват. Это все Фредди Денверс, он рассказал всем мальчикам в школе, что Артур трус, потому что он не джентльмен, и Дик ужасно расстроился.
— Вот как? Я поговорю с Фредди Денверсом.
— Нет, пожалуйста, не надо, я тебе это по секрету сказала. И все равно это бесполезно: Фредди такой глупый, он ничего не поймет. Мама, а знаешь, что сказал мсье Жиль?
— Нет, не знаю. Что же?
— Он сказал: «Таким людям, как вы или Монктоны, не приходится рисковать головой, разве что вам самим этого захочется, — все равно вы голодные не останетесь. Вот вы и рискуете для забавы, просто чтобы показать, что вам не страшно. А такие люди, как отец Артура, вынуждены идти навстречу опасности независимо от того, страшно им или нет». Он сказал: «Для них это не забава, а труд». Как по-твоему, мама?
— По-моему, он прав. И по-моему, они больше достойны уважения.
— Артур написал про это стихи — как рыбакам приходится рисковать жизнью, потому что у них дети голодные и никто этого даже не замечает.
— Стихи?
— Ну да. Ты же знаешь, он обо всем пишет стихи.
У Беатрисы на миг перехватило дыхание.
— Вот как! Нет, я не знала.
— Неужели не знала? Он не показывает тебе, потому что думает, что они плохие, но я думала, ты знаешь. Он только что прислал мне стихи ко дню рождения — про то, как я выросла и какие у меня стали длинные ноги и длинные волосы, прямо, как у Аталанты.
— Нет, я не знала, — повторила Беатриса и задумалась.
Ласковая рука вкрадчиво обвилась вокруг ее талии.
— Мамочка, скажи мне… ты сама знаешь, о чем. Тебе правда было очень противно?
— Что именно?
— Вот это… Уф! Отрезать лисе хвост!
— Не помню. Не противнее, чем…
Она умолкла на полуслове и засмеялась.
— Боюсь, мне были противны очень многие вполне естественные и безобидные вещи, дорогая моя. В молодости я была не слишком рассудительна.
В ту же секунду медвежонок стиснул ее в объятиях и чуть не задушил поцелуями.
— Мамочка, я так рада! Ты была бы такая душечка, если б не была всегда такая ужасно рассудительная. Беатриса со смехом высвободилась.
— Как раз сейчас я совсем не чувствую себя душечкой, если хочешь знать.
На мой взгляд, ты возмутительно надерзила отцу и тебе следует пойти и извиниться перед ним.
Глэдис вскочила, она всегда охотно просила прощения.
— Хорошо. А ты пока пойди приляг, мама, ладно? Ты такая бледная. Я только сперва причешусь.
— И умойся, пожалуйста, а то ты вся заплаканная.
— Сейчас умоюсь. — Девочка глянула на себя в зеркало и состроила гримасу. — Ну и красавица! Вот бы у меня был такой нос, как у тебя, мама.
Или нет, лучше как у дяди Уолтера — такой аристократический! И зачем только бывают курносые носы?
Беатриса поднялась.
— Ты мне задала сегодня столько вопросов… Можно, теперь я тебя спрошу об одной вещи? Часто ты… вы все… гуляете в лунные ночи по карнизам?
"Как видишь, — писала Беатриса брату, — в этом разговоре я оказалась в невыгодном положении, слишком ясно показав перед этим, что и у меня бывает душа в пятках. Мне не так уж часто случается в критическую минуту позорно падать в обморок. Но если у тебя на глазах однажды уже был убит твой ребенок, этого, пожалуй, хватит на всю жизнь.
Малыши меня пугают. Они думают, в самом деле думают. У Глэдис, как видишь, склонность сперва действовать, а думать потом. Она унаследовала горячий нрав Телфордов и подчас слишком поддается порывам. Но уж когда она задумается, мысль ее не менее ясна, чем у Артура, хотя обычно им же и навеяна и, разумеется, куда менее своеобразна. Артур безусловно редкая натура. А Глэднс, по-моему, просто-напросто хороший, — льщу себя мыслью, что, может быть, очень хороший, — но все-таки совершенно заурядный человечек. И глядя на них, я чувствую, что в мире происходит что-то непонятное мне. Нас с тобой считали умными детьми, и росли мы в семье ученого, — но никогда мы не судили старших так здраво и не разбирались в них так тонко, как эти двое".