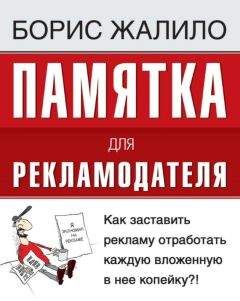— Вы должны нам рассказывать — это тоже ведь знания.
— «Вы, нам» — опять обобщаешь. Но ты прав — рассказывать должны. Мы, собственно, и рассказываем.
— Вот и расскажи.
Так часто бывает: просто не хочется чего-нибудь, например рассказывать, — неприятно, боишься; а подводишь при этом теоретическую базу, долго и нудно ее растолковываешь, разжевываешь, пустословишь, а на самом деле себя жалеешь. Другому голову задуриваешь. Целую научную концепцию выстроишь ради какого-нибудь своего мимолетного нежелания или, наоборот, какой-то устойчивой прихоти. Так сказать, идеология под себя, — теория, обосновывающая собственную нужду, жажду или каприз. Придумал ее, пронудил вслух, и вскоре уже и сам в нее веришь. Конечно, так легче.
— Ну, попробуй разберись. У меня была больная, молоденькая тетя, почти совсем девочка. Она заболела аппендицитом, и еще у нее воспаление было. Она хотела быстрее выписаться и сбивала температуру. А потому у нее от этого заражение крови началось и она умерла.
— Мам, а у меня заноза в пальце — я не умру?
— Где заноза? Покажи.
— Вот она.
Галина Васильевна взяла лупу и стала рассматривать палец.
— Вот глупый. Я ж говорю. А когда это ты?
— Вчера.
— А что ж молчал?
— Боялся.
— Видишь? Мало знаний еще.
— Ты мне рассказала, и я узнал. Не умру, мам?
Маленький демагог. Но дети поступают точно так же, как взрослые. Так сказать, по образу и подобию. «Ты мне рассказала, и я узнал». Они тоже тотчас берут на вооружение и тоже строят свои теории-подспорья для общения с окружающим миром. И прежде всего с родителями, первым форпостом мира взрослых в их жизни.
— Нет, конечно. Сейчас вытащим.
Не любят доктора такие вопросы. Конечно, не должен умереть; но как можно задавать такие вопросы и как можно отвечать на них? Целый ворох сомнений и разных вариантов начинает носиться В голове. Даже если спрашивает так ребенок. Особенно если так спрашивает твой ребенок. Да уж что поделаешь. Вопрос больного не запрограммируешь. Вопрос ребенка и еще того более.
А что он еще спросит, неизвестно, и вовсе страшно… Лучше что-то делать, чем говорить, чем ждать вопросов и искать на них ответы.
Галина Васильевна взяла из коробки пинцетик и, глядя через лупу, почти мгновенно вытащила из пальца занозу. Насколько легче делать, чем говорить, отвечать. Тем и хороша работа хирурга. Делаешь как профессионал, а отвечать должен просто как умный человек. Да еще и честно. Да еще ребенку. Да еще своему. Говорят, детей обманывать трудно. Чепуха. Неправильно. Детей обманывать очень легко. Их так легко обмануть, но самому потом трудно, противно, да и страшно — никогда ведь не знаешь, чем тебе это после отольется. Впрочем, когда врешь, не только детям, или даже просто недоговариваешь — никогда не знаешь, чем обернется. И все-таки врать приходится — ну никак не обойдешься. И делаешь играючи, походя. Врешь порой так, что не всегда и замечаешь даже. Это-то и страшно. Трудно врать только первого апреля — мучительно думаешь, как бы придумать что-нибудь поизящнее. И все равно чаще всего получается на уровне: «У вас вся спина в белом».
— Видишь? — Она показала занозу. — Вот и все. А ты боялся.
— Теперь не умру?
— Нет, конечно.
— А почему тетя умерла?
— Поздно сказала про температуру. И ее не лечили. А болезнь развивалась.
— Боялась?
— Не совсем. Торопилась. Боялась тоже, наверное.
— А чего ж вы ей поверили?
— Как же не верить людям? Лучше верить всегда. Иначе жить трудно.
— Вот и зря, значит. Умерла же.
— Это верно, сынок, но жить надо все равно на вере людям.
— Сама виновата, значит?
— Не в том дело. Кто виноват, теперь трудно сказать.
— А если б не поверили — жила бы?
— Что ты все время: поверили — не поверили… Сейчас уже все равно. Человек умер — и его не вернешь.
— А если б я не сказал про занозу — умер бы?
— Андрюшенька, не в этом дело. Конечно, врать не надо — никогда мы не знаем, чем кончится любое вранье.
— А правда чем кончится — знаем?
— Но по крайней мере с правдой мы живем всё зная, а вранье нам глаза закрывает. Мы как слепые.
— А я и не врал. Я не говорил.
— Тебе хорошо. У тебя папа, мама, они тебе могут рассказать, научить. Ты и должен пользоваться этим — рассказывать, чтоб научили, пока у тебя не хватает ни собственных знаний, ни достаточно прожитых лет. Придет время, и будешь знать, что скрывать нужно, что можно, а что — ни в коем случае.
— А я ничего не скрываю.
— Лукавишь.
— Как это — лукавишь?
— Хитришь. И не только со мной хитришь, но и сам с собой.
— Как это — сам с собой?
— Себе говоришь, что не скрываешь, Себе. Хоть знаешь, что скрываешь.
— Я же сказал, когда испугался.
— Вот и плохо. Когда жизнь тебя схватит за горло, устрашит, тогда, как за спасательный круг, хватаешься за правду. Но уж теперь, раз ты увидел, что правда спасает, пользуйся ей всегда.
— Всегда? Это я подумать должен. Мы в классе про это говорили. Всегда нельзя.
Вот дети и сами уже приходят к относительности в вещах абсолютных. Врать нельзя. И не врать нельзя. Как их направить, как объяснить? Что читать? Как поверить в правду? На занозах многого не объяснишь. Трудно Галине Васильевне.
— Ладно, Андрюшенька. Ты делай уроки, а я займусь рукоделием — чинить твою одежду буду. Ладно? Ты подумай, мы еще поговорим об этом. С папой поговорим…
Каждый занялся своим делом.
Человек часто, делая что-то руками, в то же время думает совершенно о другом. (Кому, как не хирургу Галине Васильевне, должно быть это знакомо.) Впрочем, может, и о том же, но совсем по-иному, совсем с другой стороны, но поди ж ты улови сразу связь сейчас бегущих мыслей и прежде вымолвленных слов… Как в снах порой бывает трудно найти ниточку, связующую ночной морок с прошедшей явью. Но все же она есть всегда. С прошлой, нынешней и даже с явью предстоящей. Да и действительно, многое в будущем случается естественно, логично, но мы осознанно этого не понимаем, не допускаем, а то и не хотим, а в глубине-то, наверное, уже ждем, или боимся, или надеемся, или гоним мысль от себя… Но она-то уже есть… Так можно думать о снах и будущем, если отбросить всякую метафизику из нашей жизни.
Галина Васильевна ушла в свое детство, вспоминала тех, кто ее учил, кто растил, кто советы давал и совестил. И как… Как все было. Что было в жизни, в детстве… Есть ли что сейчас вспомнить?..
«Ничего вроде в детстве у меня и не было. Жила. Росла. Училась. Выучилась. Замуж вышла. Родила. И оперировала. А там уж пошла вся жизнь в работе. И радость в работе, и удовольствия в работе, и вся игра души в работе. Другого не было, а всегда хотелось, наверное. Надо бы и другое знать. Или не помню другого? Надо все, что тебе в жизни отведено, что предписано, предопределено, пережить, пройти и — переходить к иной жизни, жизни для высших удовольствий. А что это?
Удобно мне думать сейчас так.
Не помню других удовольствий. Ничего не помню. Отца — и того не помню.
Помню какой-то разговор об отце. Война идет. Есть хочется. Что говорят об отце — не помню. Помню лишь — стою уперевшись лицом в зеркало на дверце шкафа, глаза скосила вниз и на самом краю поля зрения вижу расплющенный по стеклу свой собственный нос — белую прижатую площадку его, а хочется разглядеть еще и губы — я чувствую, как они распластаны, интересно, такие же они белые? А ниже еще подбородок, а он какого цвета, интересно, — мне не видно, но я ощущаю, понимаю — все распластано по стеклу. (А в другой раз взяла прозрачное стекло, прислонила к нему, раздавила свое лицо им, отошла на шаг от зеркала и все разглядела, все узнала доподлинно. Нос, губы, подбородок — все было белое.) Что же они говорили об отце? Вроде бы он перед войной был на какой-то зимовке. О холоде говорили. Так вроде бы говорили. Не прислушивалась как надо, не поняла, — вроде бы говорили так. Потом война. И не видела я его. О нем говорили, а я пыталась разглядеть распластанное, белое лицо свое. Да и есть хотелось.
Это одно из первых воспоминаний моего детства.
А потом еще одно, когда война кончилась. Тоже смешно. Восьмого мая весь мир уже праздновал капитуляцию Германии, а я легла спать и еще ничего не знала. А утром разбудили меня — все кричат: „Победа! Победа!“ И я кричала. А кто-то сказал: „Победа уже давно. Их уже давно победили. Сегодня больше, чем победа, — сегодня мир, нет войны“. А я все думала, почему так сказали. А потом поняла — может, отец вернется. И побежали все на Красную площадь. Сейчас вспоминаю и понимаю, что значит „людей как сельдей в бочке“. Действительно — на всей громадной площади люди стояли впритык друг к другу. Впритык. Бок к боку. Рука к руке. Толпа двигалась, перемещалась — и никого не задавили. Такая тесная толпа была — и ни один человек не пострадал! В толпе. А вечером все ждали салюта. И опять на Красной площади. Над городом заполыхал шатер из лучей, прожекторов. И сходились все лучи прямо над моей головой. Мне казалось, прямо надо мной. И всем, наверное, так казалось. И громадный портрет в небе колыхался, колебался над нами, будто дышал. А рядом флаг громадный колыхался и сверкал — алый, алый. Сверкал и поблескивал.