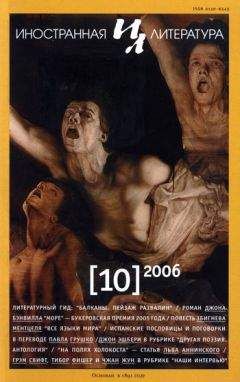Анна не понимала моей чувствительности на этот счет, где уж ей, продукту неопределенного класса. Мою мать она находила дивной — ну, зажатой, ну, злопамятной, трудной, но все равно прелестной. Мать, надо ли говорить, на это теплое отношение не отвечала взаимностью. Они и виделись-то всего два-три раза, и выходила полная жуть, по-моему. Мама даже на свадьбе у нас не была — я не приглашал ее, надо признаться, — и умерла вскоре после, тогда же, когда и Чарли Вайсс приблизительно. «Как будто они нас освободили оба», — сказала Анна. С такой благостной версией я был не согласен, но спорить не стал. Потом уже, в хосписе, вдруг она завела разговор про мою мать, помню, совершенно без повода, я, во всяком случае, его не усмотрел; персонажи из далекого прошлого возвращаются под конец, требуют своего. Наутро после бури всё снаружи, в окне угловой палаты, было взъерошено, валко, косматый лужок засыпан преждевременным листопадом, деревья пошатывались, как с похмелья. На одном запястье у Анны была пластиковая бирка, на другом приспособление, на вид вроде часиков, с кнопкой, нажмешь — и отмеренная доза морфия поступает в уже вполне отравленную кровь. В первый раз, когда мы нанесли визит домой — дом: словцо как подножка, и я спотыкаюсь, — мать с ней почти ни словом не перемолвилась. Мама жила у канала, в темной, низкой квартирке, провонявшей хозяйскими кошками. Мы принесли ей беспошлинные сигареты, бутылочку шерри, она фыркнула, принимая дары. Сказала: надеется, что мы не рассчитываем у нее поселиться. Мы остановились в гостинице по соседству, где текла в ванной ржавая вода и у Анны сперли сумочку. Маму повели в зоопарк. Она смеялась над павианами, злобно намекнула, что кого-то они ей напоминают — меня, конечно. Один мастурбировал, с уморительно томным видом глядя через плечо. «Поганец», — припечатала мама и отвернулась.
Чай пили в кафе — там же, и рев слонов мешался с гулом воскресной толпы. Мама курила беспошлинные сигареты, демонстративно давя после двух-трех затяжек, чтоб я, значит, понимал, что она думает о моем предложении мира.
— И чего она тебя все Макс да Макс? прошипела она, когда Анна отошла к стойке, купить ей булочку. — Какой ты ей Макс.
— Теперь уже Макс. Ты не читала разве вещи, я тебе посылал, вещи, которые я написал, там стояло мое имя?
— Почем же мне знать, я думала, это кто-то другой написал.
И — величаво, по-своему, повела плечом.
Умела выказать свой гнев даже позой, сидела на краешке стула, напрягши спину, сжимая сумочку у себя на коленях, и шляпка вроде бриоша с вуалеткой на тулье съехала набок на неприбранных седых кудельках. На подбородке тоже пробивался седой пушок. Она с отвращением огляделась. — Тьфу. Ну и местечко. Небось сплавить меня хотели сюда, и чтоб мартышки бананами потчевали.
Анна вернулась с булочкой. Мама презрительно глянула.
— Это еще зачем? Я не просила.
— Ну ма, — сказал я.
— А ты мне не ма́кай.
Но когда мы уходили, она всплакнула, отступя в отворенную дверь квартиры, заслоняя локтем глаза, как злящийся на себя ребенок. Она умерла в ту же зиму, сидя на лавочке у канала, будним, не по сезону теплым вечером. Грудная жаба, никто не знал. Голуби еще суетились над крошками, которые она им побросала на тропку, оборванец присел рядом, предлагал глотнуть из бутылки в бумажном кульке, не замечая, что она умерла.
— Странно, — Анна сказала. — Вот ты тут, и вот тебя нет.
Вздохнула, глянула на деревья. Они ее завораживали, эти деревья, хотелось постоять под ними, слышать гул ветра в ветвях. Но не пришлось, не пришлось выйти, никогда, никогда. «Странно, вот — была тут, и…», — так она сказала.
Кто-то ко мне обращался. Пышка. Интересно, и долго я отсутствовал, бродил по комнате ужасов у себя в голове? Обед кончился, Пышка прощалась. Когда она улыбается, личико у нее делается еще меньше, съеживается, сморщивается вокруг пуговки носа. Я видел в окне, как собираются тучи, но непросохшее солнце низко на западе еще пялится из бледной прорехи в мутно-зеленом небе. На минуту представилось: сижу, ссутулясь, огромный, отвисла красная нижняя губа, громадные руки вяло протянуты по столу — гигантская горилла в клетке, сморенная транквилизаторами. Бывает, и в последнее время все чаще, — вдруг мне кажется, что все, что знал, позабыл, вылетело, вылилось ливнем, и, парализованный ужасом, жду, надеюсь, что все еще вернется, но не уверен, отнюдь не уверен. Пышка собирала вещички, готовясь могучим рывком выволочить из-под стола необъятные ноги, подняться. Мисс Вавасур уже встала, витала над плечом подруги — большущим, как шар для боулинга, — мечтала, чтоб та поскорей убралась, старалась себя не выдать. Полковник стоял по другую сторону Пышки, изогнувшись и делая руками неясные пассы, как грузчик, примеряющийся к тяжелому, особенно неудобному предмету мебели.
— Ну вот! — сказала Пышка, постучала по столу костяшками, бодро оглядела сперва мисс Вавасур, потом полковника, и оба ринулись к ней, будто и впрямь собирались взять под локотки, поднять и установить.
Мы вышли в закатной медью тронутую осеннюю промозглость. Ветер охлестывал Станционную, макушки деревьев мотались, метали в небо мертвые листья. Истошно кричали грачи. Ну вот, почти разделались с этим годом. И с чего я взял, что взамен придет что-то новое, кроме чисел в календаре? Машина Пышки, маленькая, прыткая, красная и веселая, как божья коровка, стояла на гравии. Она стонала, пока Пышка, пятясь, водружалась на водительское сиденье — сперва взволокла необъятный зад, потом подтащила ноги и, крякнув, рухнула на прикидывающуюся тигровой шкурой обивку. Полковник распахнул ворота, стоял посреди дороги и театрально взмахивал руками, направляя машину. Запахи выхлопов, моря, осенней садовой гнили. Мерзость запустения. Ничего я не знаю, ничего, обезьяна старая. Пышка весело нам гуднула, помахала, осклабясь через стекло, мисс Вавасур помахала в ответ, совсем не весело, машина кособоко прошуршала по дороге, по железнодорожному мосту и скрылась.
— Холодрыга, — полковник, потирая руки, ринулся в дом.
Мисс Вавасур вздохнула.
Ужина нам не полагалось после такого долгого, такого тяжелого обеда. Мисс В., я видел, все не могла успокоиться после перепалки с подругой. Полковник за ней поплелся на кухню, вымогая хотя бы чай, но она его отшила, и он поплелся к себе, к своему радио, к футбольному матчу. Я тоже ретировался, в эркер, со своей книжкой — Белл[18] о Боннаре, скука смертная, — но читать не мог, отложил. Визит Пышки нарушил хрупкое равновесие нашего быта, что-то как бы беззвучно звенело в воздухе, будто щипнули тонкую, тугую струну и она все дрожит. Я сидел у эркерного окна и смотрел, как погасает день. Голые деревья через дорогу чернели в последних закатных вспышках, грачи хриплой стаей кружили, снижались, с распрями устраивались на ночлег. Я думал про Анну. Заставлял себя думать. Упражненье такое. Ножом во мне засела, а вот — начал забывать. Уже ее портрет, который держу в голове, протирается, отваливаются краски, сходит позолота. Вдруг дождусь, что холст начисто опустеет? Стало доходить, как мало знал ее, то есть как поверхностно знал, как плоско. Я себя за это не корю. Хоть, может, и надо бы. Слишком был ленив, невнимателен, слишком занят собой? Да, и то, и другое, и третье, но все равно, по-моему, за что ж тут корить — ну не знал, ну забываю? Не исключено, что вообще преувеличивал возможности знания. Я так мало знаю себя самого, куда уж других-то знать.
Нет, постойте, не то, не то. Тут я начал завираться, — разнообразия ради, скажете, ну да, ну да. Дело в том, что мы и не хотели друг друга знать. Больше скажу, мы именно что хотели не знать друг друга. Я уже где-то сообщал — некогда возвращаться, рыться, вот, стукнуло ни с того ни с сего, пока бьюсь тут над мыслью, — что в Анне я прежде всего нашел возможность осуществить фантазии о себе самом. Я не очень понимал, что я имел в виду, когда это сообщал, а теперь немного подумал — и вот вдруг понял. Понял? Ладно, постараюсь обмозговать, времени у меня навалом, они бесконечны, эти воскресные вечера.
С самого детства я хотел быть кем-то другим. Указание nosce te ipsum[19] песком скрипело на языке с первого раза, как мне его велел повторять за собой учитель. Я знал себя, слишком даже знал, и то, что я знал, мне не нравилось. Опять-таки объясняю. Мне не то не нравилось, чем я был, то есть мое истинное, неповторимое я — хоть, согласен, самое понятие истинного неповторимого я весьма условно, — но собрание воздействий, наклонностей, заемных идей, классовых бзиков, мне пожалованных взамен личности. Взамен, да. У меня никогда ее не было, личности, хотя бы как у других она есть, или они считают, что есть. Всегда я был типичное, внятное ничто, никто, а вот поди ж ты, страстно мечтал стать невнятным кем-то. Я знаю, что говорю. Анна, я с лету наметил, должна была стать средством моего превращения. Большим таким зеркалом в полный рост, в котором расправятся все мои искривленья. Будь самим собой, ну чего ты? — она говорила в начале нашего брака, — будь, заметьте, не познай самого себя, — и ведь из жалости говорила к моим нелепым потугам охватить неохватное. Будь самим собой! К сама небось думала: Да будь ты, кем хочешь. Такой мы с ней заключили пакт, что избавим друг друга от тяжкого груза: быть теми, кого в нас видят вокруг. Она, по крайней мере, меня от этого груза избавила, ну а я — что я для нее сделал? Может, не надо было ее замешивать в эту тягу к незнанию, может, это только я в нем нуждался?