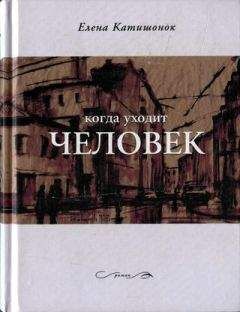За башню — сначала вавилонскую, теперь Соборную.
За то, что картавишь.
За большевистскую власть.
За швейцарские часы у тебя на руке.
За то, что говоришь на нашем языке.
За то, что живешь в одном доме с нами.
За то, что живешь.
…что смеешь жить.
Дома так же, как и люди, привыкают видеть вокруг одни и те же фасады и торцы — лица и профили других домов. Дом прекрасно знал своих соседей. Теперь трудно было привыкнуть, что справа пустота. Строго говоря, груду развалин нельзя назвать пустотой: не пустота — останки. Могила дома, который принимал на себя резкий ветер и февральскую пургу. Слева — вечно пустующий, а значит, тоже мертвый дом. Приют для сирых и убогих, слава богу, на месте, но так скрыт за буйной июльской зеленью, что о его присутствии можно только догадываться. Вот пролился дождь, и заблестела крыша: жив курилка! Веселый, хохочущий июльский дождь оживил сонные улицы, облил стены, крыши и уже под прищуренным солнцем продолжал рассеянно клевать булыжник мостовой.
Внизу, где Палисадная упирается в начало Гоголевской, стоит широкоплечий четырехэтажный верзила. Розовая краска цвета дамского белья совсем ему не к лицу; дом конфузится. Дождь на время затушевал неприличную розовость. Весь первый этаж тесно засижен лавками: тут бакалея, хлеб, деликатесы и вино. На самом углу, почти напротив сквера, независимо раскачивается вывеска парикмахерской. Дверь приоткрыта. На пороге стоит парикмахер в полурасстегнутом халате и ковыряет в зубах расколотой спичкой. От сквера широкой дугой идет длинная Романовская улица, где находится Русская гимназия. Ее светло-сизые стены потемнели от дождя. Водосточные желоба фыркают, выплевывая воду. Солнечные зайчики прыгают по мокрым блестящим карнизам.
Больше всего народу на Гоголевской, у синагоги. Это серое здание, строгое и элегантное: высокие окна, у входа колонны; несколько входных дверей, а под крышей тоже окна, только круглые; зачем бы? Что такое синагога, дом толком не знает, но не признаваться же… С деликатесами проще — оттуда несутся запахи, а у дверей теперь всегда очереди. Около синагоги очереди нет, просто все заходят внутрь, а зачем — неизвестно; и кто там живет, тоже неведомо…
Соборная башня, о которой так много говорят в последнее время, отсюда тоже видна, хоть для этого нужно было привстать на цыпочки; зато башня видела все дома! Если бы четвертого июля она высилась над городом, как прежде, то увидела бы молодцеватых веселых парней, которые устроили вокруг синагоги импровизированный хоровод. Парни перебрасывались шутками и гранатами. От шуток громко смеялись, а гранаты бережно ловили и ловко швыряли прямо в высокие окна. Но башня не видела того, что видел дом, не отводила глаза от зловещих факелов, не слышала взрывов гранат и нечеловеческих людских криков. Чисто прополосканное небо заволокло тяжелым дымом, и звуки стрельбы не могли заглушить криков.
В тот день Каин опять убил брата своего Авеля.
Убил, но не ограничился этим, как тогда, в поле, на заре человечества, а превратил акт в процесс.
Оккупационные власти были довольны и процессу не мешали — внутренняя борьба, как они деликатно назвали охоту на людей, надежно отвлекала население от болезненных вопросов самоуправления и прочих наивностей, что и предусмотрел заранее известный берлинский меморандум. Кроме того, у немцев было достаточно забот с расселением солдат и организацией их досуга, с советскими военнопленными, устройством концлагерей и со строгим учетом всего мирного населения. Ибо все должны работать на великую Германию — война, господа.
В таких хлопотах разменяли июль, проветрили город от дыма, вытерли кровь.
А кровь продолжала литься.
Царственный август, самый звездный месяц, зажег первые звезды не на небе и даже не на земле, а на людях. Дом не отличал евреев от других людей, пока у них на одежде не появились желтые звезды. Крупные — куда там небу! Одна на груди, одна на спине. Звездные люди вели себя странно: например, ходили не по тротуару, а прямо по мостовой. Не удивительно, что раньше евреев не было видно. Оказалось, горбатый Ицик тоже звездный, тоже еврей! Желтая звезда забралась ему на самую верхушку горба. А у нас ни одного еврея нет, подумал дом.
Ну-ну, скептически покосилась доска с фамилиями жильцов; мне видней. Вот зеркало свидетель. Но зеркало не спешило с выводами, потому что привыкло видеть все слова не так, как они написаны, а совсем иначе, и никто, даже дядюшка Ян, этим похвастаться не мог. Солнечный луч скользнул, преломился в трещине, и невозможно было сказать, сморщилось зеркало или улыбнулось.
На Палисадной оживление. Немцы пригнали грязных осунувшихся красноармейцев в гимнастерках без ремней, и они разгребают развалины доходного дома.
Странно, что доктор теперь выводит собаку в несусветную рань, а по вечерам совсем поздно, и все больше один, без Зильбера. Этот долго не показывается — уж не съехал ли, как дантист? Нет; вот он. Не самый лучший вечер он выбрал для прогулки — такой дождь зарядил, что только держись, недаром и шляпу натянул на самый нос! Опять эти двое спорят, но так тихо, что ничегошеньки не слышно. Когда они идут к парадному, доска многозначительно посматривает на зеркало, на дверь с цифрой «21» и тяжелой латунной пружиной, но посплетничать не с кем — дом спит.
В квартире у Бергмана разговор продолжается не намного громче. Говорят на эту тему не в первый раз, все еще надеясь переубедить друг друга.
— Если это сельтерская, то я Наполеон, — хозяин ставит бутылку, стаканы и раскрытую пачку галет фанерного вида. — Или хотите чего-нибудь покрепче? Могу развести спирт. Почти трофей, между прочим, — добавляет с усмешкой, но не объясняет, хотя есть что…
Когда вся деловая жизнь города замерла, а потом распалась, словно карточная колода в неумелых руках, закрылась и клиника, где работал Бергман. Говорили — временно. Дескать, немцам тоже нужны врачи, но сколько продлится неопределенная «временность» и что будет дальше, никто не знал. Послеоперационных больных родные забрали домой. Коридоры стали необычно просторными от распахнутых настежь дверей палат и солнца, льющегося сразу из всех окон.
Макс Бергман обвел взглядом кабинет. Очень непривычно было уходить — не на обед, не в отпуск, а на неопределенное время. Или навсегда? Он протянул руку к шляпе, и в этот момент в дверь постучали.
— Хорошо, что я вас застал, — начал главный хирург, — у меня к вам разговор.
Выглянув в коридор, вернулся, плотно закрыл дверь и продолжал:
— Коллега, там трое после бомбежки… Скажем так: никем не востребованные. Что с ними делать, ума не приложу.
Макс терпеливо подождал — не пришел же, в самом деле, Старый Шульц советоваться, — потом спросил:
— А что они говорят?
— В том-то и клюква, что ничего не говорят, — главный снял очки и держал их за сведенные дужки, пальцами массируя переносицу, — одна черепно-мозговая и две контузии. Если они заговорят, то уже с немцами.
— Так это?.. — начал догадываться Бергман.
— Они, — Шульц ритмично покачивал рукой, и солнечный луч прыгал по стеклянной восьмерке очков, — те самые. Откуда родным-то взяться. Если не ошибаюсь, вы живете где-то поблизости от дома призрения — или что там, приют? Туда немцы навряд ли сунутся, а если даже и… Мало ли где ранило: формы на них нет.
— У нас соседний дом разбомбило, — подхватил Макс, — скажем, они из пострадавших. Думаю, администрация не станет возражать. Хотя документы…
— Лишь бы выкарабкались, — махнул рукой хирург, — документы покойникам не нужны. Как-нибудь… Вот с парнишкой там осложнение.
Последние слова главный произнес уже встав. Надел очки, точно в седло вскочил; на ходу обернулся и кратко пояснил:
— Они в семнадцатой, сестра перевязку сделала перед уходом. Тут еще одна клюква, доктор: все это на добровольных началах, сразу вас предупреждаю.
Застегивая халат, Бергман спросил:
— Серьезное осложнение?
Шульц кашлянул:
— Увидите, — и легко, как молодой, устремился к двери.
Еще неделю-другую назад Макс ничего бы не увидел, но сейчас не увидеть было невозможно — осложнение было налицо. Вернее, на лице: на койке лежал молодой еврей, вчерашний боец Красной Армии, а сегодня личность вне закона. Он равномерно мотал по подушке головой, но глаз не открывал. Его сосед тоже лежал с закрытыми глазами — точнее, глазом, потому что второй был полностью скрыт пухлой повязкой; одна нога была в гипсе. На третьей кровати плашмя лежал худой мужчина с забинтованной головой и мелко дрожал, будто кровать трясло. Рот у него был скошен и приоткрыт, верхняя губа чуть припухла.
Старый Шульц наклонился, приподнял веко лежащего и отвел руку:
— Без изменений. На звук тоже не реагирует. Однако пареза нет. А вот что с внутренними органами… Они в машине ехали, а улицу бомбили. Этому больше всех досталось. Суть вам ясна?