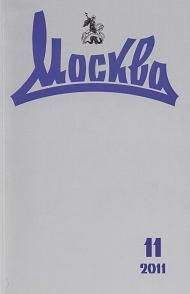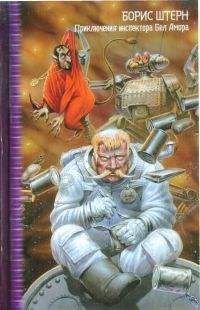А то, что ей совершенно не с чего было обваливаться, пол не сотрясался, а я в этот момент громогласно взывал внутренним гласом, что-то стронул в тонких структурах мира и получил ответ, на какой эта куча старой бумаги только и была способна. Почему-то никто не удивляется, когда ворон усаживается на окно и начинает говорить гадости человеческим голосом. Почему же изрядному собранию книжек не послать некую группу на поддержку своему хозяину, коли есть яростная его просьба?
Это я сейчас излагаю связно и по порядку, на самом деле эти идиотические умозаключения вращались в голове, как фарш в недрах мясорубки.
Только вот зачем для этой цели выбраны были Катаев, Фадеев… «Разгром»? Мне было сказано, что все, разгромлен и нечего уж далее сопротивляться? Как-то примитивно, прямолинейно. Олеша… Ни дня без строчки. Совет сесть поработать? Еще глупее.
А вот это интереснее. Я взял в руки свою собственную книжку, въехавшую мне в спину в череде остальных. Любопытно, что мне может сказать моя собственная проза? Повертел томик настороженными пальцами. Как его вскрыть на предмет получения заключенного в нем сообщения? Поступим как с Льюисом — распахнем наугад и шестнадцатая строчка сверху. Почему шестнадцатая? А дьявол его ведает. Привязалось ко мне число.
Распахнул и попал на такое описание: «Невысокий коренастый самурай вынес на подносе орудие для свершения ритуала. Короткий, сантиметров тридцать длиною, клинок. Рядом на подносе лежала белая тряпка. Ноги обернул ею рукоять клинка. Тот, кто вынес оружие, отложил поднос, помог Ноги опустить кимоно, обнажая торс. Ноги поднес клинок ко лбу и поклонился, никому специально не относя поклон. Второй самурай наклонился и пропустил рукава кимоно под коленями сидящего. Ноги положил замотанный клинок рядом с правым коленом и начал разминать руками мягкий, явно не воинский живот».
И как это понять?
Что тут общего: я и харакири?
Такова, значит, наводка. И на что она должна навести?
Я осторожно распрямил затекшие ноги и замедленно, как лесной ленивец, переместился в кресло, стоящее посреди печатного хаоса, каким являлся не до конца обустроенный кабинет.
Может статься, он никогда и не будет обустроен.
Только вот не надо об этом и в эту сторону.
Какая-то бессловесная мысль леденила мне внутренности.
Так на что же намекаю я сам себе описанием харакири, сделанным с таким знанием дела?
Не описывай, не случится.
Но почему если харакири — то именно и только самоубийство?! Может быть, я просто советую себе обратить свой взор на Японию с ее столь оригинальной культурой? Кто знает, а вдруг именно Япония меня спасет и вылечит! Не так уж мы далеки друг от друга. Истинное чудо художества случается как раз при сближении далековатых понятий.
Надо подумать.
Что для меня Япония?
Акутагава, хокку-танка, кимоно. Что еще?
Порт-Артур, переходящий в Пёрл-Харбор. Камикадзе. Нет, нет, нет! Не надо камикадзе! Икебана, палочки, пагоды, тихо, тихо ползи, улитка, по склону Фудзи.
Да, там же живет Казакевич!
Да, там живет Казакевич. И уже пять лет не звонит.
Для русского литератора забуриться на безвыездное десятилетие в такую страну, как Япония, — самоубийство!
Тихо, тихо, и Казакевича не надо.
Просто о литературе, о японской литературе.
Кавабата, Кэндзабуро, Кобо Абэ, Мисима. Ну, это опять харакири. Да, впрочем (нервный смешок), тихоня из «снежной страны», нобелевец Ясунари, тоже покончил с собой. Вот чем кончается японская линия. И почему только кончается? А Акутагава — рыцарь люминала?
Все от А до Я — сплошное самоубийство.
Право, это уж и смешно даже.
Хотя и не смешно.
И японский бог с этой Японией.
Примитивный каламбур никак не выплевывался из сознания, мозг начинало тошнить.
Нет, бежать от узкоглазых! Бежа-ать! И я побежал. Далеко, в другую комнату. Это был великолепный ход. В этой комнате тоже были книжные полки, но сплошь заставленные Ленкиными кулинарными книгами. «Супы», «Салаты», «Кулинарное путешествие по Венгрии», «Кулинарное путешествие по Италии» и так далее. В самом деле, сколько в мире стран, где не делают харакири, сколько написано книг, где говорится не о том, как убивать, а как накормить! Если посмотреть пропорционально, то Япония со своим распоротым чревом окажется на таких статистических задворках… Буду здесь сидеть. Здесь безопасно. «Пицца», «Домашнее консервирование», «Кулинарный словарь», «Национальные кухни наших народов» Похлебкина, «Медовая кулинария». А это что? Небольшая зеленовато-черная книжка лежала так, что корешок рассмотреть было трудно. Почему-то волнуясь, я встал, наклонил голову и заглянул слева.
Марк Алданов. «Самоубийство».
Опасная зараза вырвалась с Японских островов.
Сердце колотилось страшно, пролетая по едва заметным перебоям, как поезд по рельсовым стыкам.
Надо успокоиться. Все это глупости и чушь. Не хватало мне начать бояться книг. Я подтащил к себе одну из лежавших на широком подлокотнике кресла.
Ст. Рассадин. «Самоубийцы». Этот томик белого цвета всю прошлую неделю лежал рядом с креслом. Я ведь полистывал его между волнами тоски, не придавая никакого — НИКАКОГО — значения названию. Отчего же сейчас оно хряпнуло меня, как дубина по черепу? Ну ничего, ничего такого нет в этой книжке. Обычное либеральное блеяние у подножия отвратительно могучего сталинского постамента. Почему я должен дергаться, оттого что некий московский литературовед зачисляет в разряд самоубийц писателя Олешу, и писателя Катаева, и писателя… И тут мне стало окончательно худо. Я встал и, ступая осторожно, как по тонкому льду, потащился обратно в кабинет, хотя знал, что этого можно и не делать. Я и так наизусть знал все тома, что были выброшены мне в спину подлой книжной шайкой. Книги бьют и лежачего.
Да, вот они так и разлеглись, самодовольно потирая страницы.
И что тут самое интересное. Из всех этих авторов не являюсь «самоубийцей» только я. Попов Михаил Михайлович.
Я зарычал, одновременно хлопая себя ладонями по дрожащим коленям.
Хватит!
Хватит!
Хватит!
Ты, милый, нездоров. Попьем таблетки. Очень не хотелось до этого опускаться, влезать в химическую зависимость, спрямлять сознание, но, видать, без этого не обойтись.
Неверова на работе не было, пришлось звонить Зубавину, прозаику-лекарю. Он был на рабочем месте у себя в поликлинике. Выслушав мой сильно смягчающий истинное положение дел рассказ (не хватало, чтобы меня сочли психом в толпе коллег), он сказал:
— А, депрессуха. Приезжай.
Меня провели без очереди к невропатологу. Очкастый толстячок внимательно послушал мои жалобы, почесал концом ручки переносицу.
— Коаксил, пожалуй, слабоват тут будет.
Я просил что-нибудь посильнее, но почище, за ценой, мол, не стою. Приятный дядька понимающе кивал и выписал самое-самое из наиновейших средство. Оно якобы действует сразу на обе медиаторные системы головного мозга — и серотониновую, и норадреналиновую, и никаких побочных эффектов.
— Ну, поспите вначале дня полтора-два, и все.
— Тогда по коньячку? — спросил я.
Невропатолог не мог — прием, а Зубавин мог, его дежурство уже закончилось. Вышли мы на улицу в тихую, мягкую метель.
— Хорошо начинать лечиться в снегопад, народная примета, — сказал я.
Мы взяли ноль семь хохляцкого коньяка — «Украинская с перцем», и о самоубийстве я стал думать чуть мягче. Но от твердого намерения начать лечиться немедленно не отказался. Приступать к таблеткам мне — после перца — сегодня было и нельзя, но я твердо решил их сегодня купить. Расставшись с Зубавиным, поехал по аптекам. Ни в первой встреченной, ни во второй, ни в громадной аптеке на Новом Арбате, куда меня вынес поиск, ремерона моего не было. Я испытывал сложное и к тому же пьяное чувство. Чем в большем количестве аптечных мест я не заставал нужного мне лекарства, тем более утверждался в уверенности, что оно самое новое и нужное, и одновременно все сильнее начинал опасаться, что вообще его не найду. Повезло мне только в заведении над Москвой-рекой, в том месте, откуда можно рассмотреть на противоположной, красиво окамененной стороне окна бывшей редакции Саши Белая. Там я напечатал свои лучшие романы и выпил свою лучшую водку.
Ремерон подтверждал выданные ему словесные авансы — у меня возникло радостное жжение под ложечкой, когда мне сообщили цену. Такое дорогущее лекарство не может не помочь. Не выходя на улицу, я вскрыл коробочку и вытащил сопроводительный листок. Так-так… Показания: «психомоторная заторможенность» — это, кажется, не про меня; «колебания настроения — утром хуже, чем вечером», это точно про меня. «Суицидальные мысли и намерения». Стоп. Вот тут надо провести четкую грань. Я сделал несколько глубоких вздохов.
Мысли — да, намерения — нет!