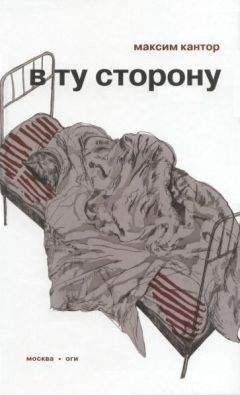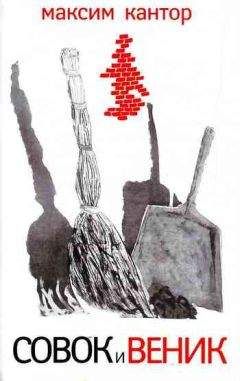— Торопишься, молодой человек. Так скоро у нас не умирают. Живехонек!
— Наркотик будете лить? — спросил Антон.
— Так уж сразу и наркотик. Физрастворчик сначала польем, а потом и наркотик.
— Ему больно? Ему сейчас больно?
Сестра подняла больному веки, заглянула в мутные глаза Татарникова.
— Так кто ж его знает. Не пойму. Может, и больно. Какой-то он странненький. Ну, может, от наркоза не отошел.
— Дайте наркотик! Не мучайте его, дайте скорее наркотик! Уберите свой физраствор! Бросьте эту банку! Слышите! — Антон схватился рукой за штатив капельницы, и дрожь его руки передалась штативу, зазвенели банки с раствором.
— Руки-то прими, — сказала сестра. — Командир нашелся. Раствор нужен. Силы откуда брать?
— Вы рак кормите своим раствором, — кричал Антон, — вы его только мучаете, поймите! Боль снимите, снимите боль! — Он схватил сестру за плечо, но та стряхнула его руку.
— Не больно ему, — сказала сестра. — Видишь, сознание потерял, вообще не дышит.
— Как не дышит?
— Не дышит, и все.
— Почему? Почему?
— Так вот легкие, думаю, отказали. Я уже пять минут наблюдаю. Не дышит. Врач сказал, что заработают легкие, однако не работают. И желудок тоже не работает.
— Почему?
— Думали, полежит в реанимации — и организм опять заработает. Не включился организм.
— Так что же вы стоите!
— А что я, по-твоему, плясать должна?
Антон выбежал из палаты в коридор — коридор был пуст.
— Кто-нибудь! — крикнул он громко, но никто не откликнулся, и Антон сам испугался своего голоса в пустом больничном пространстве. Он бросился бежать по коридору, тычась в запертые двери, — но никто не вышел, никто не отозвался. Антон добежал до угла, за поворотом открылся новый коридор — еще длиннее, еще белее. Желтый кафельный пол, тусклые лампы. И много закрытых дверей.
— Почему? Почему? — Антон бегал по коридору отделения, дергал ручки запертых дверей. — Кто-нибудь! Слышите? Кто-нибудь!
Из ординаторской вышел рыжий Колбасов, сказал строго:
— Ведите себя пристойно, молодой человек. Здесь больница. Вы что, пьяны?
— Нет, не пьян! Послушайте, послушайте! Там человек умирает! — кричал Антон. — Вы же доктора! Сделайте что-нибудь!
— Операция прошла хорошо.
— Плохо! Слышите, плохо!
— Вы лучше меня знаете? Операция прошла удовлетворительно.
— Не дышит! Слышите, он не дышит! Легкие отказали!
— Знаю, — сказал Колбасов.
— Он умрет, умрет!
— Успокойтесь. Ему вставили трубку, легкие вентилируются.
— Но почему отказали, почему?
— А, наверное, метастазы в легких, вот легкие и отказали.
— Так что ж вы раньше не узнали, что там в легких?
— А как узнаешь? Молодой человек, мы почки оперировали.
— А с желудком что?
— Ничего страшного. Не работает кишечник, вот и все.
— А почему не работает?
— Молодой человек! Ну как может работать сломанная вещь! Вы машину водите? Нет? Представьте, есть у вас машина, а у нее сломался мотор, двигатель развалился, колеса отлетели. Ну, представили? И чего вы хотите? Чтобы машина ехала? Кишки не работают, это не удивительно. Там, наверное, метастазы, вот и все.
— Если все так, тогда зачем была операция? — Антон подумал, что сейчас ударит врача. — Зачем вы резали его? Вы что, садисты? Вам резать нравится? Дайте человеку уйти спокойно!
— Мы выполняли свой долг, — сказал Колбасов сухо, — мы боролись с опухолью.
— А почему вы боролись с опухолью только в одном месте?
— Мы урологи, мы легкие не смотрим.
Дочка Сонечка рыдала: Бассингтон-Хьюит сделал замечание по поводу вопиющего разговора с ее матерью. Он был шокирован, говорил сдержанно. Сказал, что ему несложно переехать в гостиницу, почему бы и нет? Любопытно, есть ли в этом городе пристойные, недорогие гостиницы. Такие, где персонал не хамит.
— Что, что ты наделала! — Сонечка прижалась лбом к кухонной двери и тихо выла. — Как ты могла?!
Зоя Тарасовна сидела на табурете и слушала, как дочка плачет. Сонечка всхлипывала через равные промежутки времени и дергала спиной. Чашка с остывшим кофе стояла на столе, и кофе колыхалось в чашке в такт рыданиям. Сейчас прольется на скатерть, а стиральная машина сломана, подумала Зоя Тарасовна.
— Он уйдет, уйдет! — вскрикивала Сонечка. — Что ему делать у нас! Как жить в таком доме!
Дверь на кухню дернулась, отодвигая Сонечку и ее драму в сторону, и на пороге появилась домработница Маша. Как многие неимущие люди, когда им предстоит разговор с начальством о заработной плате, Маша долго готовилась к атаке и возбудила себя до крайней степени.
— Поговорить надо! — крикнула Маша.
— А-а-а! — тонко выла Сонечка. — Ой! Ой! Ой!
— Не надо прятаться от людей!
— Ой! Ой! Ой!
— Что тебе нужно? — спросила Зоя Тарасовна.
— Ухожу от вас, — сказала Маша, — нельзя так с людьми обращаться, Зоя Тарасовна. Вы хоть у кого спросите, вам всякий скажет.
— Уходи, — сказала Зоя Татарникова. Ей было все равно.
— Денег дайте, — сказала Маша. — Тогда уйду. За три месяца мне должны. Девять тысяч рублей дайте. Сейчас. Девять тысяч.
Сегодня все просили у Зои Тарасовны денег, а денег не было. Совсем не было. Утром в сберкассе ей дали последнее со счета, и пришлось отстоять долгую очередь из ополоумевших людей — по Москве прошел слух, что скоро рубль обесценят. Министр финансов заявил, что слух ни на чем не основан, этого никогда не случится, — и люди поняли, что ждать осталось два, может быть, три дня. Люди толкались, кричали на кассиров, требовали перевести рубли в доллары — и каждый второй говорил, что деньги ему срочно нужны для больницы.
— У меня мать в больнице! Мать помирает! — орал полный мужчина и толкал Зою Тарасовну кулаком в грудь.
Ей все же выдали деньги, это были их последние деньги — а к вечеру эти деньги закончились. Народные тайские целители взяли утром пять тысяч на солнечную энергию, санитарка в больнице вытребовала сначала пятьсот за дополнительные услуги («катетер ему поправляю, а то вся моча в живот обратно затечет»), а потом еще триста за полотенце. Какое полотенце, почему за полотенце надо платить триста рублей — неясно, но Зоя Тарасовна покорно отдала триста рублей. Доктор Колбасов намекнул, что гонорар за третью операцию с ним никто пока не обсуждал, в аптеке взяли шестьсот сорок с копейками за морфин. Вечером, когда Зоя Тарасовна покупала сыр, денег на сыр уже не нашлось. Она машинально зашла в магазин перед домом и взяла двести пятьдесят граммов российского сыра и пачку сахара — и когда полезла в кошелек, вспомнила, что последнюю мелочь высыпала на прилавок аптеки.
— Не слышите, что ли? Оглохли все? — крикнула Маша, и тут Сонечка, зарыдав еще громче, оттого что никто не обращал внимания на ее беду, оттолкнула Машу и бросилась из кухни прочь.
— Ой! Ой! Уйдет! Как ты могла!
Измученное лицо Зои Тарасовны исказила гримаса — то ли жалости, то ли брезгливости.
— Нет, Маша, денег, совсем нет. — Зое Тарасовне неприятно было так говорить.
— Есть у вас деньги, знаю!
— Нет денег!
— Тогда зачем прислугу нанимаете, если денег нет? Я ведь работала на вас. — Маша тоже плакала, но беззвучно, слезы текли по щекам и высыхали грязными полосами.
— Прекратите плакать, Маша! Без вас тошно! Все из рук валится! Нет денег, слышите, нет! В стране денег нет!
— Богатая ваша Москва! Люди в ресторанах кушают!
— Кончились деньги.
— Это у простых людей деньги кончились. А вы в три горла жрете!
— Нет денег.
— Врете, Зоя Тарасовна, вы иностранцу квартиру сдаете! У вас иностранец живет! Валютой вам платит!
— Никто мне не платит!
— Врете!
Бассингтон-Хьюит появился в дверях спальни, румяный британский джентльмен. Он внимательно изучал плачущую домработницу. Насколько это искренне? Действительно не может собой владеть — или это игра? За спиной его, в спальне, рыдала Сонечка; она свернулась в клубок на постели и содрогалась от рыданий. Зое Михайловне неудобно было плакать, но слезы — обиды, бессилия, зависти к нормальной жизни — хлынули из глаз сами собой. Созерцание трех плачущих женщин смутно напомнило Максимилиану Бассингтону что-то из русской классики: три сестры, дядя Ваня — это уже много раз описано.
— Позвольте мне. — Бассингтон полез в карман, достал портмоне.
— Не надо, что вы!
— Нет уж, пусть платит!
— Прошу вас. — Бассингтон деликатно пригласил Машу выйти из кухни; щепетильность требовала обсудить денежный вопрос наедине.
Британец и домработница вышли на лестничную площадку — собственно говоря, это самое подходящее место для разговора с прислугой.
На площадке, подле грязной двери лифта стоял смуглый плосколицый человек, Маша переглянулась с ним.