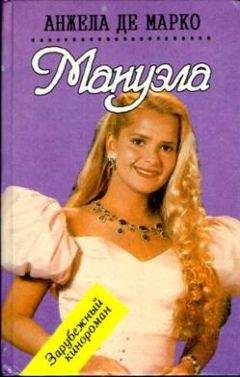Намазываю живот бальзамом из зеленого чая. Можно и обычным кремом от растяжек, но хочется побаловать Полечку. Она наверняка различает запахи. «Растяжки» — звучит фармакологически. «Бальзам» — успокаивающе.
— Без Фрейда не было бы демократии! — кричит Петр.
— Почему? — втираю я свой бальзам.
— Все равны — и король, и нищий, — ибо все страдают Эдиповым комплексом.
— Да ну, глупости это все, с психоанализом. На Западе он угасает, вот эти ловкачи и пытаются захватить Восток: более двух миллиардов потенциальных кушеток. Представляешь, до чего там докопается психоаналитик уже после пятого сеанса?
— До двадцатой реинкарнации пациента, который имел собственную мать в теперешнем воплощении на глазах отца из предыдущей жизни, а также сына в нынешней реинкарнации.
— Ведь согласно Хельге, я твоя дочь из предшествующих воплощений. Вскоре у тебя родится дочь от дочери. Как тебе такое перед дежурством в психиатрической клинике?
30 ноября
Где Поля? Я втираю бальзам, начиная с ребер — не хочется сразу холодить живот ледяными благовониями. Пальцами я ее не ощущаю. Она не там, где другие внутренности — печень и прочее. Полька у меня в голове. Я могу догадываться, что она лежит под моим пупком, но не в состоянии себе это представить. Малышка совершенно в другом месте. Во мне разрастается ее душа. Поля под моими пальцами, когда я ее глажу, она на моих губах, когда я целую ее — в душе. И именно в моей душе она спит рядом в своей кроватке. Проснувшись, Полечка запрыгивает обратно и разрешает укачивать себя в животе во время прогулки. Петушок тоже остается со мной, даже когда уходит на работу. Я чувствую и люблю его присутствие.
В магазине игрушек ищу для Поли плюшевого мишку — такого, чтобы полюбить с первого взгляда. Их множество — несчастных, эгоистических, глупых, довольных. У одного к попке приделан шнурок — тянешь за веревочку, а он в ответ очаровательно пукает мелодией, словно музыкальная шкатулка. Я затосковала по своему мишке Любимчику.
Получила я его в подарок от маминой сестры вскоре после своего рождения и укладывалась с ним спать вплоть до выпускных экзаменов. Любимая игрушка на всю жизнь. Помню мрачный осенний день, начало учебного года. Первоклассница при полном обмундировании, я сбежала с уроков домой. И застала старшую сестру с приятелем — они… выковыривали Любимчику глазик-бусинку. Никакой пуговицей его заменить не удалось, мишка остался одноглазым. Со всем отчаянием семилетнего оскорбленного сердца я выпалила проклятие: «Чтоб тебе тоже глаз выковыряли!»
Все это я вспомнила недавно, когда сестра — ей уже за сорок — вернулась от окулиста с рецептом на капли от глаукомы. Болезнь поразила правый глаз. Если эту напасть не лечить, дело кончается слепотой. Что ж, кроме обычных, индивидуальных проклятий случаются также проклятия фамильные, наследственные. Мама с теткой болели одинаковыми болезнями, мы с сестрой примерно в одном и том же возрасте надели очки.
— Сестра, глаукома — серьезная болезнь, нельзя доверяться первому встречному коновалу. Надо сходить к специалисту, — решила я.
Тот аж загорелся, впервые увидев, чтобы одно дно (правого глаза) настолько походило на другое.
— Так бывает у близнецов, атрофия одних и тех же участков зрительного нерва.
— Значит, мы ослепнем на правый глаз?
— Почему же, глаукома — болезнь обоих глазных яблок, второй глаз тоже пострадает. Но существуют лекарства, профилактика. Ну и ну, совершенно идентичные зрительные нервы… Вы младше сестры? На восемь лет? Невероятное сходство. — Врач сравнивал наши увеличенные атропином и обездвиженные щипцами глаза.
Полуслепой мишка был тетиным подарком. Набитый опилками и бедой. Все было написано на его несчастной мордочке, все читалось в прозрачном, молящем о снисхождении глазике.
Мама и тетя — погодки. На довоенной фотографии — две девочки одинакового роста, с бантиками в светлых волосах. Улыбающаяся пышечка (мама) и испуганная худышка (тетя). Не надо обладать даром ясновидения, любой психолог сумел бы предсказать их будущее — по взгляду, по детским гримасам. Мама — практичная оптимистка, тетя — перепуганная беглянка, прятавшаяся от жизни в алкоголь и несчастную любовь. Сестры, стоявшие рядом на фотографии, обрезавшей детские фигурки чуть выше колен, за кадром шагали своими маленькими ножками в противоположных направлениях — хотя даже туфельки им купили одни на двоих. В довоенной рабочей Лодзи пара выходной детской обувки была роскошью. Туфли предназначались для походов в костел. Мама отправлялась туда утром, с дедушкой, а тетя — вечером, с бабушкой. В костеле стояла большая пальма. Однажды тетя, не дотерпев до конца латинской скукотищи, пописала в кадку. Разразилась буря. Ей запретили переступать порог храма. Туфельки отдали маме, теперь она одна бегала в них на службу. А тетя в деревянных сабо ходила в другой костел, на Петрковскую.
После войны обе начали работать медсестрами в психиатрическом отделении. Мама пела в церковном хоре, тетя записалась в партию. Она верила в светлое будущее и собственные медицинские способности. Как-то помогла «залетевшей» подружке. Неудачно — началось общее заражение крови. Скандал и стыд. В наказание за любительский аборт тетю выслали на Возвращенные Земли[78]. Она устроилась в щецинскую психиатрическую клинику. Вышла замуж за одного из пациентов. Потом дядя, страдавший шизофренией, повесился. Тетка уехала еще дальше, в пограничный Грифин.
Мы навестили ее в конце семидесятых, по дороге в Мендзыздрое — в семейный дом отдыха. В больницу надо было ехать на пригородном автобусе, он сделал круг по грифинскому рынку — один раз, другой… Я чувствовала себя хуже, чем на карусели, крепко прижимала к себе мишку. Мы кружились все медленнее. Пьяный водитель, пьяные пассажиры. Никто из них, мерно покачивавшихся на своих сиденьях, не обращал внимания на маневры автобуса. Подобно жителям Грифина, он даже не пытался выбраться из безнадежности пьяной провинции. Мы взяли такси. В психиатрической клинике тоже пахло водкой, а еще лизолом. Тетя работала в детском отделении. Покачивала гамаки, поддерживавшие опухшие от водянки мозга головки. Из детских глаз катились слезы, словно вытекала раздувавшая череп вода.
Спившийся персонал жил при больнице, в лесу. Я сбежала из этих безумных казарм и отправилась погулять. То, что я обнаружила, заставило меня усомниться в собственном здравом рассудке: сосны росли горизонтально, параллельно земле. Мне объяснили, что деревья не то искривились под воздействием таинственного излучения, не то их согнули немецкие лесники, чтобы облегчить работу столярам.
Перед отъездом я показала тете мишку. Она погладила прозрачный глазик:
— А второго нет? Надо ему что-нибудь подобрать, как же он так — с одним-то глазом?
Тетя не вспомнила, что это был ее подарок. Она уже как следует прикладывалась к бутылке и мало что помнила. Лечилась от очередной несчастной любви — к адвокату, потерявшему дар речи вследствие алкоголизма. Я видела ее только дважды — на довоенной фотографии и тем летом. Мне запомнилось, как она провожала нас возле больницы. Махала худой рукой с длинными красными ногтями. Чуть покачиваясь на высоких каблуках, в летнем платье, тетя походила на Марлен Дитрих и даже казалась красивее, потому что и в самом деле была несчастна.
В Мендзыздрое, в доме отдыха, мы все спали в одной комнате. Однажды ночью меня разбудил странный звук — словно кто-то царапал коготками по матрасу. Папа тоже услышал.
— Должно быть, кот забрался.
Мы заглянули под кровати — пусто. Погасили свет… снова царапанье. Мама с сестрой решили, что у нас галлюцинации: никакого кота в комнате нет, значит, и звукам взяться неоткуда. Утром, по дороге в столовую, где по утрам нам давали овсянку, я увидела спрятавшегося под машину котенка. Погладила его по грязной головке. Котенок взглянул на меня — против солнца. Глазки словно просвечивали насквозь, прозрачные, как бусинки Любимчика, только бесцветные… Сквозь них были видны глазницы… Я присмотрелась: глаза котенку кто-то выколол. Подошла мама:
— Возвращаемся в Грифин, сегодня ночью умерла тетя — звонили из больницы.
Ее нашли на кровати — обломанные ногти впились в матрас, простыня сползла на пол. Она умирала в одиночестве, очень мучительно. Я не знала, что снотворное не избавляет от страданий, пусть даже сквозь сон.
30 ноября
Мне с самого утра чего-то хочется… Шарю в кухонных шкафчиках… Нет, это не голод. Ваниль… ромовая эссенция для выпечки. Открываю бутылочку… выпить рому, закусить ванилью? И тут меня осеняет. Хочется духов! Бегу в ванную. Открываю флакончики. Я снова чувствую обыкновенные запахи! Они не бьют в нос, не скручивают тошнотой. Облегченно вздыхаю, затягиваюсь ароматным воздухом. Без конца вынюхивавшая что-то самка сдохла. Вернулась женщина, которая брызгает духи на шею и волосы.