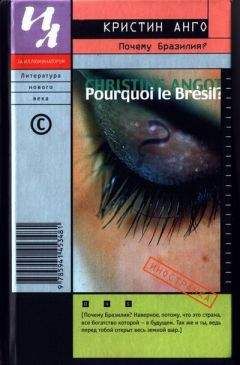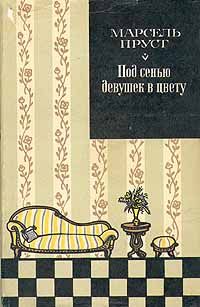Мы пережили десятки взрывов. Однажды утром — дело было летом, в Вентабрене… Накануне вечером у нас случился очередной кризис, и мы отправились прогуляться по дороге подальше от деревни; и тут я заорала — была ночь, и казалось, что, кроме нас, в долине никого нет, — Я УХОЖУ ОТ ТЕБЯ. Вся его реакция свелась к иронии, он ответил: хорошо, а в котором часу? По дороге ползла змея, я оставалась невозмутимой. Я ушла вперед, потом рассказала все Лорану, пытаясь объяснить, с чего начался скандал, но это было практически невозможно. Мне удалось только вспомнить, что среди ночи — Пьер занимал больше чем полкровати, а я никак не могла уснуть, — он вдруг приподнялся, сел и сказал: зажги свет, я хочу, чтобы ты увидела. Посмотри. Я сплю на пятнадцати сантиметрах. Что было неправдой, все доказательства налицо. И вот, при очевидных доказательствах противоположного, он утверждал, что спит на пятнадцати сантиметрах, а я раскинулась по всей постели. Я ничего не сказала, встала и ушла, чтобы проплакать остаток ночи на диване. К пяти утра я вернулась в постель, к семи, проснувшись, он обнял меня, а я его оттолкнула. Мы встали по отдельности, позавтракали по отдельности. Я разговаривала с Лораном, а Пьер отправился за газетами и остался читать их в кафе. Я пошла к нему. На мне были черные джинсовые шорты и бледно-голубая блузка. Он сразу меня заметил, как я подхожу. Посмотрел на меня. Я села. Он: тебе что-то нужно? Я ответила: нет. Ты пришла ко мне? Я ответила: да. И рассказала ему о Мишеле Фуко,[66] о заботе о себе. Я ему сказала: вот ты — чтобы заботиться о себе, тебе нужно одиночество. Если ты заботишься о ком-то другом, то уже совсем не заботишься о себе, и потому через два дня, а то и через день ты взрываешься. Я ему сказала: послушай, давай поговорим. Давай будем как можно чаще прикасаться друг к другу. Давай купим кровать побольше, и тогда сможем спать вместе каждый день. Я куплю новый матрас, на котором мы не будем обливаться потом. Осенью ты соберешься с силами и постараешься бросить курить, я бы хотела, чтобы ты был внимательнее к себе, тебе надо сделать анализы крови, ты питаешься как попало, у тебя наверняка холестерин. Смотри, как нам хорошо, смотри, мы же созданы друг для друга; и так было вечером, и на следующий день, и все последующие дни, вплоть до сегодняшнего, целых четыре дня, вот уже четыре дня не было НИ ЕДИНОЙ бури. Нам хорошо. Мы счастливы. Мы любим друг друга. Я влюблена. Я не могу себе представить, что однажды все это вдруг закончится. Я так влюблена, и все так прекрасно. Вчера вечером он меня раздражал, но это не важно. Он снова начал работать, значит, вернется напряжение. Мне придется быть бдительной, вот и все. Достаточно вспомнить, что со мной творилось в то же самое время всего год назад, когда я была одна и ничего на горизонте, кроме приближающегося выхода «Покинуть город» — моей единственной перспективы. Теперь я не ожидала выхода книги, и это мне нравилось. Мне было хорошо весь день. В самолете, на обратном пути, я приняла решение — чтобы контакт не прерывался, чтобы кризисы больше не повторялись, потому что у меня совсем уже не осталось сил, — я приняла решение писать ему, чтобы связь никогда не разрывалась.
Пьер!
Мне кажется, что я ищу тебя уже долгие годы. И только-только начинаю наслаждаться счастьем встречи с тобой. Ты никогда не сможешь вообразить себе, какой я была год назад в это же самое время. Никогда. Вот уже четыре дня ты видишь, как я люблю тебя, и это прекрасно, но я чувствую, что недостойна тебя, боюсь, что ты бросишь меня, представляешь, а вдруг ты неожиданно влюбишься еще в кого-то, я тогда пропаду. И одновременно мне кажется, что я полностью заслужила это счастье. Какое счастье — сидеть на скутере за твоей спиной, например, как вчера, помнишь? В особенности летом. Не знаю, что это значит — любить, но, думаю, я люблю тебя. Я люблю твое тело, люблю упругость твоего тела. Я люблю твой живот, твою плоть. Знаешь, я чувствую текстуру твоего тела. Она упругая, совсем особая, присущая только твоему телу. У Мари-Кристин я любила запах, у Клода — его тепло, у Эрве — спину, ягодицы, ноги, взгляд, а у тебя я люблю тело, плоть. А ведь тело — это самое важное. Спасибо, что сегодня утром до ухода ты вместо меня позвонил нотариусу по поводу наследства моего отца.
Я люблю тебя, Пьер.
И еще, Пьер, я должна тебе кое-что сказать, но не знаю, права ли, что говорю это. Вот я о чем: вчера, когда мы занимались любовью, вскоре после полудня, в спальне, я тебе в какой-то момент сказала: я люблю тебя, Пьер. И в ту же минуту спросила себя: как я могу? Я спросила себя, думал ли ты тоже об этом. Я люблю тебя, Пьер, ты понимаешь, что я хочу сказать. Я спросила себя: действительно ли ему, именно ему, Пьеру, Пьеру Луи, Пьеру Луи Розинесу, я сейчас говорю, что люблю его? И по мере того, как я прибавляла имена к твоему имени, все рассыпалось. Я сказала себе: Пьер. Я сказала себе: Пьер Луи — просто для отличия; возможно, это покажется искусственным… И я сказала себе, то есть в тот самый момент, когда добавила «Розинес», я сказала себе: что это дает? Да ничего. Я сказала себе: Пьер. Луи — это имя, которое дано для отличия. Розинес, Шварц, в общем еврей, мой дед, моя мать, я. И я сказала себе: ну вот, ты сейчас говоришь своему отцу, что любишь его, но это ничего не значит, ерунда, просто я так подумала. Пьер, дорогой мой, это ты, ты знаешь это, дорогой мой Пьер. Когда я говорю «дорогой мой Пьер», ты наверняка можешь быть уверен, что это ты. Я всегда мечтала встретить кого-нибудь, кого бы звали Пьером, и вот такая неожиданность. Ты — моя нежданная встреча, Пьер. Мне кажется, я могу часами писать тебе, Пьер.
Мне жарко. Я сижу за твоим столом, печатаю на твоем компьютере, потому что моему не хватает мощности, в общем, ты вернешься и сделаешь все, что надо. Я сейчас звонила тебе на работу и почувствовала, как сильно люблю твой голос.
Я люблю тебя.
Кристин.
Вторник, 31 июля 2001 г.
Пьер!
Пьер, я вдруг поняла, что уже долгие годы, десятки лет отказывала себе в удовольствии произносить: «я люблю тебя», «дорогой мой» и т. д. Десятки лет. До вчерашнего дня. Когда ты прочел вчера письмо и пришел ко мне в спальню, ты растянулся поперек кровати, и мне показалось, но я не решилась тебя спросить, мне показалось, что у тебя в глазах были слезы. Может, ты расскажешь мне про это сегодня вечером, когда прочтешь мое письмо. Пьер, в глубине души я уверена, что однажды мы расстанемся. Я боюсь. Мне хочется быть с тобой. Я даже задаю себе вопрос, любила ли я когда-нибудь. Хотя прекрасно знаю, что любила. Мне кажется, я люблю тебя по-настоящему. С тобой у меня есть все. И потом, ты мне нравишься, твой рост мне нравится, твои метр семьдесят пять. Мне безумно нравится, что ты не очень высокий. Я это обожаю. И твои черные волосы — вроде бы самый обычный цвет, но я его всегда предпочитала, можно даже сказать, была им околдована. Я понимаю твое тело. Я понимаю все.
Ты знаешь, я сейчас в таком же нетерпении, какое бывает обычно, когда пишешь настоящие письма, те, что отправляют по почте, то есть я с нетерпением жду, когда ты вечером вернешься. Ты сказал мне, что будешь не слишком поздно. Мне так хочется, чтобы ты поскорее все это услышал. Я люблю тебя. Но надо ли это говорить? Пьер, я уже не знаю, мне хочется остановиться. Я боюсь, что это принесет мне несчастье — повторять, что я люблю тебя. И потом, с кем я говорю? Почему с тобой? Я не понимаю. Скажи мне. Скажи мне. Скажи мне, что происходит.
Я люблю тебя.
Кристин.
В Монпелье мы остановились посреди улицы. Танцевали парни-арабы. Собралась толпа, все заворожено следили за движениями их бедер. И вот, глядя на их бедра, следя за их движением, я думала про нас и про то, как нам хорошо. Этим летом очень удачно получилось, что он взял с собой мало трусов и потому к середине отпуска начал надевать брюки на голое тело. Я пришла от этого в восторг. Нам еще столько нужно было сделать. Он хотел, чтобы мы нашли себе подходящее местечко на Юге — можно будет почаще вырываться из Парижа. Мы планировали поездки в Бейрут, в Асуан, в Лондон, и еще собирались в Берлин и в Вену, у нас были разные планы. Я говорила о Японии, думала выдвинуть свою кандидатуру на «Вилла Кудзояма»[67] и хотела, чтобы он ко мне присоединился. А еще мы должны были через несколько дней лететь в Канаду.
Однажды мы спали на матрасе, с открытыми окнами — было жарко, — и среди ночи он вдруг меня будит, зовет: Кристин, Кристин. Я себе говорю, что это мне снится, не может быть, чтобы он меня будил. Оказывается, может, он действительно будит меня. Чтобы показать, что спит на пятнадцати сантиметрах и что к тому же я прижалась к нему. Мне пришлось снова принимать снотворное, чтобы уснуть. На следующий день я чувствовала себя уставшей, но не напряженной, мне было хорошо. Утром я писала, болтала по телефону с Жан-Марком, потом с Дамьеном. Договорилась с косметологом на вторую половину дня. Она была португалкой лет двадцати пяти, ее звали Мария. Она задавала традиционные вопросы: вы уже были в отпуске, вы собираетесь в отпуск, куда вы едете, вам это будет полезно. Выйдя от нее, я оказалась на улице Роше, было очень жарко, люди жаловались на жару. Я не жаловалась, слишком намучилась от холода и дождя за прошлую зиму. Я зашла в магазин узнать, сколько стоят футоны, хотела купить их для подружек Леоноры: я надеялась, что за учебный год у нее появятся подружки, которые смогут приходить к нам в гости с ночевкой. Зазвонил мой мобильник, я вышла из лавки. Это был Пьер. Он только что вернулся домой. Он спросил: ты где? Я ответила: на улице Роше. Что ты делаешь, хочешь, пойдем выпьем по стаканчику на улице Леви или мне идти домой? Он сказал: иди домой. Я поставила Хелен Мерилл.[68] Мне 42 года, я совершенно не знаю, что нас ждет дальше, сколько еще времени мы будем вместе или когда расстанемся, не умрет ли один из нас, будут ли у нас еще кризисы и т. д. Единственное, что я знаю, это что завтра мы отправляемся в Канаду. Мне не удавалось почувствовать уверенность ни в чем другом, и это начинало меня тяготить. Я нуждалась в четкой и устойчивой перспективе.